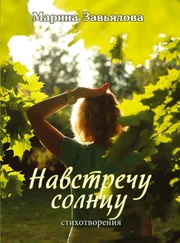А пока началась процедура «оформления ареста». Когда же я заявил «о своём крайнем возмущении действиями полиции», меня предупредили: будете мешать следствию/!/ - уже следствию — вас «препроводят» в тюрьму… Словом, сорок пять минут прошло; оптимизм мой по–прежнему был на высоте, но за меня, кроме мудака–переводчика, взялись уже трое «дознавателей». Понимаю, что в конце концов, всё выяснится: должны же они, наконец, обыскать и меня и мои вещи?! Тогда и увидали бы и официальные письма, и газеты со статьями обо мне и моими фотографиями… Однако, ошмонать меня они могут позже, в тюрьме. Надо же было так опростоволоситься с этим «бизнесом»!
В это время, динамик над дверью, пискнув, сексуальным напевцем промяукал несколько фраз. И я услышал в интерпретации дикторши звук, похожий на «… Бэнч–жи–мина Дои–зин…»! Нутром почувствовав, что это обо мне, я вскочил. Моментально, под белы руки, меня жестко вернули на место, опрокинув чашечку с кофе и добив её об пол…
К счастью! К счастью!
Вдруг неожиданно всё переменилось: полицейские вскочили, оправили мундиры, вытянулись… Они, наверно бы, улыбнулись сразу и занялись ритуальными поклонами… Но… В распахнутую дверь ввалился огромный, с генеральскими погонами на сером френче, полицейский чин. И «на его плечах» в помещение ворвалась гомонящая стая телевизионщиков с нацеленными на всех сразу чёрными коконами микрофонов… Вспыхнул ослепительно рыжий свет… В меня уставились глазища объективов… Тут вошли новые люди… И среди них, рядом с Масаро, я увидал своих!…
Встреча с первых же мгновений была бурной — где она, хвалёная эта японская сдержанность?! Вообще, о какой сдержанности речь, если только что истязавшие меня полицейские пожелали… сфотографироваться со мною «на память!». — Но я же вас и так никогда теперь не забуду! — пообещал я. Когда слова им перевели я потянулся за бокалом к подносу — его занесли моментально, — ждали, что понадобится!… В фокусе обжаривающих светильников нас снимали десятки камер!… И только когда у меня ничего не получилось с бокалом, я спохватился: «браслетики» — то — они вот они!… Сняли их только после того, как мы — полицейские и я — вновь пообснимывались ревущими от удовольствия репортёрами…
… Огромная площадь перед зданием авиакомпаний. Толпа встречающих. И плотный тройной кордон полиции перед нею. Распоряжается тот самый великан, что первым залетел в мою «тюрьму». Смотрю на него со спины. Широченные плечи. Тонкая талия. Из–под фуражки — седой ёжик топорщащихся волос. И лицо — теперь в профиль, — уж очень оно знакомо!…
Неожиданно старик оборачивается ко мне. Разгребая полицейских, подходит. Останавливается передо мною. Смотрит из–под козырька пристально и неулыбчиво. Мгновение, — и я сижу на его плече! Под ликующий вздох и вопль толпы он несёт меня в её центр. Там невысокая трибунка. Ещё не опустив меня, он, вдруг, говорит мне на добротном «русском» — как говорили японцы, многие годы прожившие на Курилах или на Сахалине: — Не узнал? А, — Додин–сан? Не узнал… Значит я уже совсем старый…
И тут я сообразил: да ведь это же он, он — мой кровник, братчанин, — Томи Имаи! «Великан Имаи–сан»!… В Братске, на Мостоколонне, когда не справлялись они с нормой, нас, кессонщиков, тоже выгоняли на зачистку старых рельсов… Тогда мы работали с ним в паре: я держал на проволочной ручке зубило, а Томи ударами двадцати килограммового молота, бил по нему, срубая накатанную колёсами заусеницу… Бил с остервенением невольника, разбивающего оковы. И добился до последней стадии дистрофии. До не прекращавшегося сутками желудочного кровотечения. И до больнички, куда мы снесли его умирать. Месяц, — через сутки — ему переливали мою, не очень, правда, обильную кровь. Вечерами, после съёма, я приходил к нему и «подкармливал» его своей пайкой мяса или рыбы. Мы получали её на обед, прямо в кессоне, чтобы не свалиться там под воздушным прессом от… бессилия. Но ему, крупному, дошедшему зэку, всё это было нужнее…
И он поправился. Выздоровел. Выписали его на работу в самый день моего этапа в Тайшет, — и, далее, в Красноярский край — в ссылку. С того времени ничего о нём не слышал. И товарищи, что писали мне после 30–го ноября прошлого года, ничего про него не знали…
И вот, он несёт меня к ним! …
Конечно, наш пострел везде поспел: Тацуро Катакура и тут впереди!
Когда Томи опустил меня к трибунке, «пострел» говорил что–то, но не толпе, а микрофону и тысячеголовому Чудищу — наставленным нам в лица телекамерам, и чёрным «шомполам» на длинных штоках…
Читать дальше