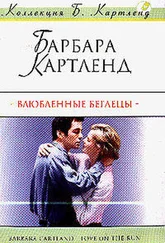— Нет субы, падар–ра сассем…
— А как жа я вас кормить буду–то, горемык?… Тюрей, что ли из ухи? — Аркадий думал только об одном — поставить японцев на ноги, чтобы их можно было увести в жилье — в его зимовье, например. Ему не приходило в голову, что японцы озабочены другим: кто он? И не отправит ли он их обратно в страшный лагерь, откуда они бежали однажды, — с отчаяния, от голода, от страха умереть безвестно с биркою на ноге… Бежали, чтобы ни в коем случае не вернуться, пусть даже приняв для этого самую мучительную смерть… Много позже Кабаяси–сан признался: когда они поняли, что пропадут, что не переживут зиму, когда у них начались галюцинации — мнились циновки с блюдами, в которых… баланда с гнилою рыбьей «начинкой», снился огонь лагерных костров и тепло печи в дырявом бараке, слышались команды «на обед» — им становилось страшно. И не потому, что это был конец. А из–за того, что они ловили себя на желании… вернуться к той тухлой баланде, насытиться ею, наконец, уснуть хоть однажды, хоть на одну единственную ночь, хоть на час под гудение никогда не гревшей их барачной печи, но манившей раскаленной дверцей в забытые, запрятанные глубоко в их души такого же цвета солнечные восходы на их пропавшей, забывшей их, ее солдат, далекой, теплой родине… — Хироси всегда чувствовал, когда у меня появлялись эти подлые, эти недостойные мысли. Наверно, они посещали и его. Но он — человек необыкновенно сильный духом. И я знал, что он не даст мне упасть в бездну… Я отдал ему нож и успокоился… Потому, что сказал себе раз и навсегда: будь проклято все рабское, что есть во мне. И с этой минуты я свободный человек…
Ни о чем таком Тычкин не задумывался. И только накормив японцев тюрей–юшкой с сухарями, рыбой и мелко нарезанным лакомством–лекарством — сохатиной серьгой, протертыми сквозь запасную сетку конского волоса, что сохраняется постоянно в мешке охотника…
Мы сидели за большим семейным столом Соседовых в их теплом и светлом чинеульском доме. Напоследок, чтобы по–доброму отметить собственную свою дорогу из обильной тайги, Ольга расстаралась: горкой лежали на блюде только что изжаренные в печи котлеты из рябчиков, струганина из мороженного осетра, заливное из стерлядки, жаренные в сметане рыжички, белые и черные грузди — грибные короли — в медовом рассоле /такое едал только на том же Чинеуле у Соседовых!/. Батарея бутылок выстроилась призывно… Но, что–то не елося никому, не пилося…
— Понимаешь, парень, — тихим своим голосом неторопко говорил Михаил, — лонись /в прошлом году/ зима была сиротска — мерзлых синицов не попадалося. А ноне, — видали, каки рябинники? Быдто кулями виснут повезде. И у кота, вот, шерстишша повыросла, быдто омороча /рысь/ кака ходить, — глянь ка! — И Михаил огладил здоровенного кота, дремавшего на его коленях.
— И серьга ноне у сохатого тоже навроде куля — толстушша. — Бросила Ольга.
— И серьга, точно. Значить, зиме быть лютой. А они прошлую–то чуть выжили. Ну, конечно, теперя не то, — теперя и приварок у их добрый, и одежа, и обувка… Конечно, зимовье ново с имями срубили, с каменкой… Но страховка нужна. Мало ли что? Эли, например, утти требовается — и такое могет случиться: геологи похаживають. Ну, и шушера всяка разна… Так вот, парень, — Тычкин поглядел на меня, эслиф ты согласен помочь, сбегаем тогда до японцев и попробовам их к тебе на Барему перевести, на зимовье твое. Туда, знаю, никто из тутошних не ходить. А чужие и вовсе туда не попадуть… Как ты?
— Никак. Надо — пойду с тобой и сделаю все. Хоть сейчас.
К японцам мы с Тычкиным и Соседовым добирались трое суток. Все это время вьюжило. Ветер шел валом с Севера, насквозь продувал вершинный сосняк. Деревья гудели, гнулись упруго. Попряталось зверье, куда–то исчезла птица. Только колкие клочья снега метались меж стволов, то припадая к земле, то взмывая к низкому белому небу. Когда мы подходили к месту, утро поднялось навстречу в багряных отсветах слепого солнца. Метель улеглась, но Север по–прежнему дышал глубоко и студено. Солнце, по которому соскучились за прошедшие дни, заставило нас забыть тяжелый путь через Оймолонскую падь, а потом и по самой гриве, где бились мы в снежных завалах больше суток. Здесь, в Медвежьей пади было тихо. Только мороз давал знать частым треском сухого валежника, укрытого снегом — будто кастаньеты клацают, когда наступаешь на такой вот сушнячок, не видя его под сугробом, не чувствуя, когда прогибается он под ногой…
Читать дальше