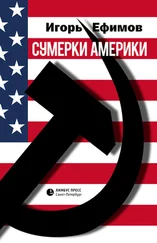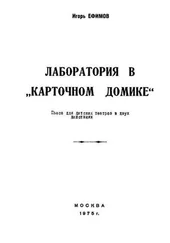Все эти соображения и сомнения я посмел изложить в письме Коэну, не согласовав его с владельцами издательства. Наверное, это было нарушением деловой этики. Но, во-первых, встретиться с Профферами для каких бы то ни было обсуждений становилось все труднее. А во-вторых, за двадцать лет литературной жизни в Союзе я так устал отмалчиваться и изворачиваться, что не хотел продолжать игру в молчанку и на свободном Западе. Откровенный обмен мнениями между двумя пишущими и думающими людьми — что может быть естественнее? Я даже закончил письмо дерзкой фразой, которая повеселила Профферов, недолюбливавших Коэна по своим мотивам. Что-то вроде: “Да, я понимаю, что ученый, изучающий клопов, ядовитых змей, крокодилов, может в какой-то момент даже полюбить объекты своего исследования. Но политический историк, мне кажется, должен строже следить за собой в этом плане”.
Мне никак не удавалось смириться с тем фактом, что стратегия борьбы в академическом мире Америки мало чем отличалась от стратегии борьбы в СССР. И там, и здесь все сводилось к захвату выбранной территории исследования, к превращению ее в свою “вотчину” и отстаиванию ее от всяких вторжений со стороны. Там историк Левин превратил в свою вотчину английских левеллеров и Джона Лилберна, здесь Питер Соломон “отвоевал” себе историю советской юстиции, Стивен Коэн — Николая Бухарина, и каждый окружал свою феодальную крепость высокими стенами и рвом, куда удобно было сбрасывать неосторожных конкурентов и критиков.
Еще один конфликт произошел по моей инициативе, когда шла работа над воспоминаниями Льва Копелева “Утоли моя печали” [3] Лев Копелев. Утоли моя печали. Ann Arbor: Ardis, 1981.
. Фон действия этой книги — та самая научно-исследовательская шарашка, которая изображена в романе Солженицына “В круге первом”. (Копелев выведен там под фамилией Рубин.) На двадцати страницах своих мемуаров автор описывает эпизод, который стал сюжетной завязкой солженицынского романа: НКВД–МГБ подслушало и записало на пленку несколько телефонных звонков, сделанных неизвестным антисоветчиком в американское, а потом и в канадское посольство. Звонивший пытался предупредить иностранных дипломатов о том, что в ближайшие дни советский разведчик по имени Коваль должен встретиться с неизвестным профессором в нью-йоркском кафе и получить от него важные секреты, связанные с изготовлением атомной бомбы. Сотрудникам шарашки поручалось сравнить звукозаписи голоса звонившего с звукозаписями голосов трех подозреваемых и найти виновного.
Копелев подробно описывает, как они бились над поставленной задачей и как заметно отличались осциллограммы и звуковиды сравниваемых голосов. И как через три дня им объявили, что виновник обнаружен без всяких осцилограмм. Им якобы оказался советский дипломат Иванов, который вот-вот должен был выехать с семьей к месту своей службы в Канаде. Теперь задача менялась: сотрудники шарашки должны были своими “научными” методами подтвердить обвинение, доказать, что голос Иванова и голос звонившего имеют те же характеристики. Делу придавалась огромная важность, начальство шарашки взяло его под свой контроль.
Копелеву пришлось слушать записи звонков в посольства столько раз, что он смог воспроизвести их в своей книге почти дословно. Главной трудностью для звонившего было незнание английского. Западные дипломаты, бравшие трубку, были очень слабы в русском, без конца переспрашивали, не могли понять, чего хочет от них неизвестный доброжелатель. По выговору — провинциал, приехавший в Москву. На вопрос дипломата “Почему вы это делаете?” наивно заявил: “Потому что я за мир”.
Копелев писал о “предателе” с искренней ненавистью и с гордостью сообщал, что их “научные” исследования заняли два тома и путем точного анализа подтвердили идентичность голосов звонившего и дипломата Иванова. НКВД был очень доволен работой сотрудников шарашки. Копелев мечтал о создании новой науки — “фоно- скопии”. По аналогии с дактилоскопией новая методика должна была определять “отпечаток голоса” с такой же точностью, с какой криминалистика определяла отпечатки пальцев.
Нелепость истолкования этого эпизода казалась мне очевидной. Если бы дипломат Иванов задумал “предать родину”, он бы спокойно дождался выезда с семьей за границу и там осуществил бы свои планы, пополнил ряды перебежчиков. Зная советскую систему прослушивания телефонов, мог бы он быть так глуп, чтобы звонить несколько раз в иностранные посольства? Неужели не нашел бы безопасного способа сообщить иностранцам о разведчике Ковале анонимной запиской на каком-нибудь приеме? И главное: звонивший английского не знал, а профессиональный дипломат мог бы объясняться с сотрудниками посольств на их родном языке.
Читать дальше