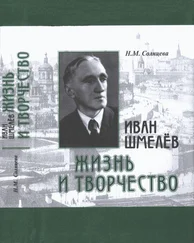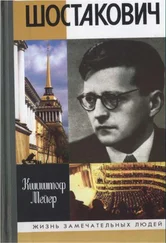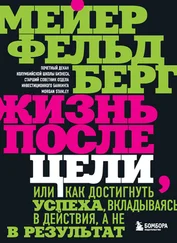К сожалению, болезнь все чаще напоминала о себе Шостаковичу, поэтому варшавское выступление после конкурса, а также концерт в Берлине в начале февраля (с программой из собственных произведений) выглядели слабее и практически не нашли отклика в прессе. Сразу же после них Шостакович вернулся на родину и вынужден был немедленно лечь в больницу. Оперировал и лечил его Иван Греков.
Неудача на конкурсе не сломила Шостаковича, и он решил продолжать концертировать. Однако, вернувшись в Ленинград, он занялся в первую очередь сочинением, и хотя игра на фортепиано и публичные выступления продолжали увлекать его, он находил для них все меньше времени. В 1927 году он еще не раз выступал с концертами. 23 ноября им был исполнен Концерт для двух фортепиано Моцарта (вместе с Гавриилом Поповым), прошли также несколько его сольных концертов в филармониях Москвы и Ленинграда. Со следующего года количество концертов стало уменьшаться, и наконец Шостакович решил, что посвятит себя исключительно сочинительству и исполнению своих произведений. Последний сольный концерт, в программу которого вошли чужие произведения, он дал в 1930 году в Ростове-на-Дону. Позднее Шостакович время от времени исполнял чужую камерную музыку, в частности Сонату для виолончели Рахманинова с Виктором Кубацким, но это были лишь единичные эпизоды. Однако иногда он, видимо, жалел, что променял карьеру пианиста на композиторство, потому что в 1956 году признался: «По правде сказать, мне следовало бы быть и тем и другим. <���…>…Я, к сожалению, забросил игру на фортепиано» [91] Шостакович Д. Думы о пройденном пути. С. 11.
. Однако эстрада всегда стоила ему больших нервов, а волнения мешали выступать, о чем он писал в 1955 году одному из своих учеников: «Много концертирую, и без особого удовольствия. К эстраде я до сих пор не привык. <���…> Как доживу до 50 лет, то прекращаю концертную деятельность» [92] Цит. по: Караев К. Статьи, письма, высказывания. М., 1978. С. 53.
. В действительности он выступал как пианист и после пятидесятилетнего возраста, пока ему позволяло здоровье.
Сохранилось много граммофонных записей Шостаковича с почти всей его фортепианной и камерной музыкой. Это любопытный документ, свидетельствующий о том, что игра на фортепиано была для него только побочной формой культивирования музыки. Техникой он владел в такой степени, что у слушателя создается впечатление, будто Шостакович не имел с ней никаких проблем. В то же время звук всегда был плоским и сухим, темп — слишком быстрым, игра — торопливой и нервной, лишенной певучести, — интерпретация, типичная для многих композиторов.
Асафьев и Соллертинский. — Творческие эксперименты: Соната и «Афоризмы» для фортепиано, Вторая симфония
В середине 20-х годов Шостакович познакомился с несколькими музыкантами, которым суждено было сыграть большую роль в формировании его личности. Прежде всего это знакомство с Болеславом Яворским и Борисом Асафьевым и дружба с Иваном Соллертинским — тремя выдающимися музыковедами, повлиявшими на его дальнейшее развитие.
С Болеславом Яворским, замечательным теоретиком, пианистом и педагогом польского происхождения, Шостакович познакомился в марте 1925 года в Москве. Чуть ли не с самого начала между двумя музыкантами протянулись нити глубокой взаимной симпатии. Будучи старше почти на тридцать лет, Яворский взял на себя роль опекуна молодого композитора, по-отцовски давая ему советы и стараясь помочь ему в налаживании творческих контактов. Их дружеские отношения сохранились до самой смерти Яворского в 1942 году. Благодаря Яворскому Шостакович лично познакомился с Асафьевым.
Петербуржец Борис Асафьев (1884–1949), который был на двадцать два года старше Шостаковича, отличался необыкновенной интеллектуальной одаренностью. Он получил разностороннее образование, изучая композицию у Лядова и историко-философские дисциплины в университете. После революции Асафьев очень активно участвовал в музыкальной жизни, с одной стороны, создавая музыку к спектаклям Большого драматического театра в Петрограде, а с другой — занимаясь научной работой в Институте истории искусств, где возглавлял музыкальный отдел. В молодости он был страстным энтузиастом авангарда и потому в 20-е годы всеми силами способствовал введению современной западной музыки в советский концертный репертуар, а в 1929 году опубликовал первую монографию о творчестве Стравинского. Дружба с Прокофьевым, который был его соучеником, имела для него особое значение. Композитор посвятил ему свою знаменитую Классическую симфонию, а Асафьев при каждом удобном случае пропагандировал музыку своего друга: так, в статье, опубликованной в 1927 году в газете «Жизнь искусства» (№ 7), он назвал Прокофьева одним из крупнейших художников современности.
Читать дальше
![Кшиштоф Мейер Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание] обложка книги](/books/414340/kshishtof-mejer-shostakovich-zhizn-tvorchestvo-vremya-cover.webp)