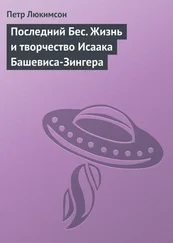Несмотря на плохое самочувствие, Шостакович выкладывался без остатка. В его игре не было слышно никаких технических погрешностей, и потому критики писали: «О технике уже не приходится говорить, она на высоте!» [86] Орлов Г. Итоги Шопеновского конкурса // Слово (Варшава). 1927. Февраль.
Шостакович и сам был доволен своей игрой.
«Начал я с полонеза (здесь все им кончают). После него хлопали изрядно. Пришлось раскланяться. Хлопали и после каждого ноктюрна. Хлопали подолгу, так что приходилось вставать и кланяться. После fis-moll’ной прелюдии здорово хлопали; после b-moll’ной тоже. <���…> Один мой знакомый сообщил мне, что Шпинальский (играл передо мной) играл эту прелюдию 51 сек[унду]. Я же сыграл ее в 47. В As-dur’ном этюде захлопали после арпеджий, и захлопали основательно. Мне кажется, что мне удалось произвести этим этюдом должное впечатление. После cis-moll’ного я встал и раскланивался дважды. После баллады здорово хлопали. <���…> Собой я доволен. Я играл, забыв все на свете, как говорится, со вдохновением».
В итоге Шостаковичу присудили только почетный диплом. Пальма первенства досталась Оборину, а остальные места получили Станислав Шпинальский, Ружа Эткин и Григорий Гинзбург; Хенрик Штомпка завоевал награду Польского радио за лучшее исполнение мазурок. Почетные дипломы получили также Юрий Брюшков из СССР, Якуб Гимпель, Леопольд Мюнцер, Эдвард Пражмовский и Болеслав Войтович из Польши, Вильгельм Момбартс из Бельгии и Тео ван дер Пасс из Голландии.
Итак, конкурс оказался в значительной степени победой русских. Кароль Шимановский писал: «Что касается русских пианистов, недавно выступавших у нас Варшаве, Лодзи, Кракове, Львове, Познани и Вильне, то они просто положили нашу музыкальную общественность к своим ногам. Пришли, поиграли и победили… Это нельзя назвать успехом или даже фурором. Это было победное шествие, полнейший триумф!» [87] Цит. по: Мусилович А. Польский композитор о русском пианизме. Слово (Варшава). 1927. Февраль.
В письме к матери Шостакович подвел итоги конкурса:
«Дорогая моя мамочка. Вот конкурс и окончился… Нисколько не огорчен, так как дело все же сделано. Программу я играл очень удачно и имел большой успех и был назначен в числе 8 человек для игры концерта с оркестром. Концерт я играл исключительно удачно… Встретили меня бурной овацией, проводили еще бурней. Все поздравляли и говорили, что на первую премию есть два кандидата: Оборин и я. Кроме того, о советских пианистах говорили и писали, что они идут лучше всех. И уж если кому и отдать все 4 премии, так это нам. Тем не менее жюри „с болью в сердце“ решило отдать первую премию русскому и таковую присудили Леве; распределение других премий вызвало полное недоумение публики. Я же получил почетный диплом. Малишевский, кот[орый] читал перечень наград, забыл прочесть мою фамилию. Тогда в публике раздались голоса: „Шостакович, Шостакович“ и раздаются аплодисменты. Тогда Малишевский читает мою фамилию, и публика закатывает мне бурную овацию, довольно демонстративную. Ты не огорчайся. Сейчас сидит антрепренер, кот[орый] ведет со мной переговоры о концертах. Уеду я в Берлин на той неделе, в субботу 5-го концертирую в Варшаве. Крепко целую. Ваш Митя» [88] Письмо от 1 февраля 1927 г. Цит. в кн.: Лукьянова И. Д. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. М., 1980. С. 48.
.
В январе 1927 года Ярослав Ивашкевич сообщал жене о встрече с музыкантами из России: «Итак, вчера у нас было то самое чаепитие. Должны были собраться в полшестого. Я пригласил жену Ярошевича (Зофью Гуляницкую, пианистку. — К. М.), Шпинальского, Олека (Ляндау. — К. М.), Романа (Ясиньского, пианиста. — К. М.), Артура Таубе, Стефана Шписса, Штомпку — все пришли, а русских нет. Не пришли. И только когда все успели разойтись, остались лишь Олек и Артур Таубе, как в полвосьмого раздается звонок и вваливаются эти сопляки. Двое из них очень милые, особенно Брюшков… Очаровательный Оборин, ему девятнадцать лет, потом ужасный и антипатичный Гинзбург (лучший пианист из них всех) и маленький двадцатилетний петербургский студент, Шостакович. Их невозможно было оторвать от рояля, но, к сожалению, играли они только фокстроты и показывали разные штучки. Только Шостакович сыграл свою Сонату, огромную махину в прокофьевском стиле. Посидели часа полтора и ушли, так как спешили еще на прием к Влодзю Четвертыньскому. <���…> Вчера вечером я был на концерте Оборина и Шостаковича, который по моему совету им устроил Тадзё Винярский. Оборин играл очень хорошо, Шостакович хуже (у него был приступ аппендицита), но ты и представить не можешь, сколько там было народу. В такой жаре и в таком скопище людей, которые ни на миг не могли установить абсолютную тишину, я поражаюсь, что они вообще могли играть. Варшава на них помешалась — их разрывают на части; невозможно перекинуться с ними тремя словами: они окружены стеной молодых, пожилых и совсем старых женщин, которые затискивают их в угол и уже там откручивают им головы и кое-что другое (?)» [89] Iwaszkiewicz J. Rozmowy о książkach. Szostakowicz // Życie Warszawy. 1973. 5–6 sierpienia.
.Через много лет, вспоминая о пребывании русских музыкантов в Польше, Ивашкевич признавался: «Для меня Шостакович с давних пор остался композитором той „огромной махины“, какой была его Первая соната, которую по просьбе моего тестя он дважды исполнил у нас, расстроив при этом струну нижнего D нашего старого „Бехштейна“» [90] Там же.
.
Читать дальше
![Кшиштоф Мейер Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание] обложка книги](/books/414340/kshishtof-mejer-shostakovich-zhizn-tvorchestvo-vremya-cover.webp)