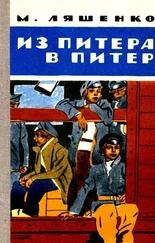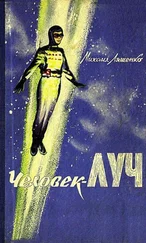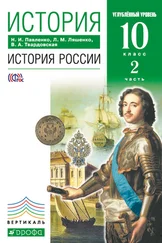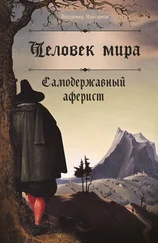Русский двор и свет восприняли убийство герцога как личное оскорбление. «Негодование, — писал историк и внучатый племянник Александра I великий князь Николай Михайлович, — достигло до высших пределов. Добрые императрицы прослезились, великий князь (Константин Павлович. — Л. Л.) в бешенстве, а Его Величество огорчен не менее глубоко. Чинов французского посольства не принимают, даже не говорят с ними… Император облекся в траур, и повестки о семидневном трауре были разосланы всему дипломатическому корпусу» {206} 206 Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I. С. 39–40.
. Масла в огонь подлило решение Наполеона отправить в Петербург в качестве своего нового представителя генерала Рене Савари, сыгравшего главную роль в расстреле герцога Энгиенского. Императрица-мать приняла Савари с ледяной холодностью, поговорив с ним менее минуты. Высшее общество в едином порыве отвернулось от него; во всяком случае, на 30 визитов француза ему ответили всего двумя.
В 1805 году была подписана англо-российская конвенция о мерах по установлению мира в Европе (по сути, это и стало началом создания третьей антинаполеоновской коалиции). Целью ее провозглашалось не свержение политического режима во Франции, как во время двух первых коалиций, а установление в Европе такого порядка, который бы смог прекратить французскую агрессию. Коалиция создавалась на основании упоминавшейся выше конвенции между Англией и Россией, содержавшей семь открытых и 13 секретных статей. Лондон и Петербург надеялись, что Россия вместе с Австрией и Пруссией сможет выставить 400-тысячную армию, а Англия — ввести в действие флот и ежегодно выплачивать 1 миллион 250 тысяч фунтов стерлингов за каждые 100 тысяч солдат. Основой для заключения будущего мира могло стать создание барьера между Францией и граничившими с ней Италией и Голландией, а также нейтралитет Швейцарии, Голландии, Италии и германских княжеств.
Главными военными силами третьей коалиции стали армии Австрии и России, действовавшие, по существу, независимо друг от друга, из-за чего уже 20 октября 1805 года австрийская армия генерала Карла Макка была разгромлена Наполеоном и капитулировала в Ульме. Михаил Илларионович Кутузов, формально считавшийся главнокомандующим, оказался в сложном положении и принял единственно возможное решение — совершить марш-бросок, чтобы не дать французам взять русские войска в клещи, а то и полностью окружить. Собранные у Ольмюца (ныне моравский Оломоуц) силы союзников пусть и ненамного, но превышали силы Наполеона. Кутузов здраво предлагал отступить в Богемию и подождать подхода резервов, чтобы еще увеличить численное превосходство союзников. Кроме того, такой отход привел бы к отрыву неприятеля от его баз и позже позволял нанести по нему решающий удар.
Однако его решение натолкнулось на неожиданное препятствие. Александр I оказался первым после Петра Великого российским императором, решившимся возглавить войска на театре военных действий и принимавшим непосредственное участие в боях и походах. Дело не в том, что ему не давали покоя лавры Наполеона. В эпоху ампира и почитания древнеримских героев доказать армии, что ты не трус, было не самолюбивой затеей, а естественным отражением духа времени. Однако подобное «геройство» монарха имело свои теневые стороны. Кутузова буквально вынудили действовать активно, в соответствии с планом, выработанным австрийским Генеральным штабом. Более того, Александр I и его австрийский коллега потребовали от главнокомандующего утром 14 декабря 1805 года оставить господствующие над местностью Праценские высоты и немедленно атаковать противника.
Французы тут же заняли оставленную противником позицию, втащили на нее пушки, что дало им возможность прорвать центр наступающих, а затем и обратить их в бегство. Призывы Александра к войскам: «Я с вами, я подвергаюсь той же опасности, стой!» — оказались бесполезными: паника, охватившая солдат, заставила их потерять голову. Позже монарх по праву был награжден орденом Святого Георгия 4-го класса — как говорилось в указе, за «прямой» офицерский подвиг: под огнем неприятеля побуждение войск идти в наступление. Пока же Александр, потрясенный масштабом катастрофы, больной, чуть не затоптанный собственными солдатами, без сил упал под деревом, где его с трудом отыскали шталмейстер Ене, вестовой генерал-адъютанта графа Ливена Прохницкий и лейб-медик Виллие.
После Аустерлица заметно пошатнулись позиции Чарторыйского, фактически руководившего внешней политикой России. Он хотел еще прочнее связать империю с Англией новым союзом и одновременно активизировать ее политику в Восточном вопросе. Правда, вдовствующая императрица Мария Федоровна указывала на иные причины отставки царского приятеля. «Больше всех, — писала она старшему сыну, — нападкам общей ненависти подвергался князь Чарторыйский. Две причины совокупно вызывают эту ненависть — то, что он поляк, и несчастье прошедшей осени (то есть поражение от французов. — Л. Л.)» {207} 207 Цит. по: Там же. С. 47.
. Сам Александр, в отличие от Чарторыйского, собирался сосредоточить все силы на борьбе с Наполеоном, не отвлекаясь ни на что другое. Поэтому для него так важна была позиция Пруссии, без которой создание четвертой антинаполеоновской коалиции было попросту невозможно.
Читать дальше