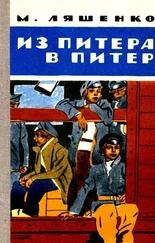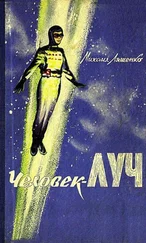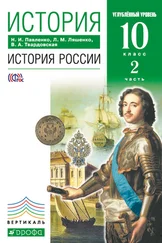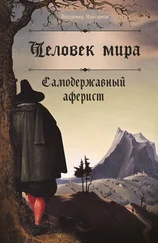Подобная позиция, получившая название политики «свободных рук», теоретически казалась весьма заманчивой. Она могла позволить России принять на себя роль третейского судьи в любом европейском конфликте и вмешиваться в него в соответствии со своими национальными и государственными интересами. Не менее важным было и то, что такая политика позволяла Петербургу, избежав участия в англо-французском противостоянии, восстановить дружеские отношения и с Парижем, и с Лондоном. На практике же политика «свободных рук» означала самоустранение от участия в текущих европейских делах, то есть оказывалась не то чтобы опасной, а просто неосуществимой.
Тем не менее, руководствуясь именно этой политикой, Россия склонила Париж и Лондон к подписанию мирного договора. Это был первый мир в Европе, установленный при содействии Александра I. Правда, в октябре 1801 года Россия сама заключила секретную конвенцию с Францией, согласно которой стороны должны были совместно решать проблемы Германии и Италии, раздробленных на множество мелких государств, защищать нейтралитет Неаполитанского королевства и т. п. Тогда-то Россия впервые столкнулась со своеобразным отношением Наполеона к международным договоренностям. Пользуясь тем, что конвенция была секретной, то есть оставалась неизвестной третьим странам, он использовал ее исключительно в интересах Франции, толкая тем самым Россию в объятия антифранцузски настроенных европейских держав.
Поначалу она попыталась действовать в одиночку, выстроив барьер из германских государств на пути французской агрессии на восток Европы и не давая Наполеону раздавить Австрию. Однако этого оказалось явно недостаточно для успешной борьбы с Францией.
Не стоит пытаться видеть причину взаимного недоверия только в коварстве или агрессивности Бонапарта. В свое время П. А. Вяземский справедливо заметил: «Не следует забывать, что Наполеон как император был не что иное, как воплощение, олицетворение и оцарствование революционного начала. Он был равно страшен и царям, и народам. Кто не жил в ту эпоху, тот знать не может, догадаться не может, как душно было жить в это время… Всё было как под страхом землетрясения или извержения огнедышащей горы» {203} 203 Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземскаго: В 12 т. Т. 7. СПб., 1880. С. 212–213.
.
Сам Наполеон всячески старался успокоить и даже перетянуть на свою сторону российского императора. Во всяком случае, князю Н. Г. Волконскому он рисовал привлекательные картины, которые, правда, ни на миг не обманули Александра I. «Скажите вашему государю, — говорил Бонапарт князю, — что я его друг, но чтобы он остерегался тех, которые стараются нас поссорить. Если мы в союзе — мир будет принадлежать нам. Свет — это яблоко, которое я держу в руках. Мы можем разрезать его на две части, и каждый из нас получит половину…» На эти слова Александр отреагировал моментально, трезво оценив ситуацию: «Сначала он удовольствуется одной половиною яблока, а там ему придет охота взять и другую» {204} 204 РА. 1874. № 6. С. 1048.
. Не доверяя Парижу, Петербург волей-неволей пришел в стан противников Наполеона и прежде всего обратился к союзу с Лондоном.
Вряд ли в то время события могли складываться как-то иначе — слишком многое подталкивало Александра к подобному решению. Здесь и проанглийские позиции союзной России Австрии, и сильная проанглийская «партия» во главе с Чарторыйским в Петербурге, и то обстоятельство, что именно Англия тогда наиболее эффективно противостояла французской агрессии. Во всяком случае, это чувствовалось и в ходе Египетского похода Бонапарта, и в пору ликвидации «дочерней якобинской республики» в Неаполе, и в войне на море, где Англии принадлежала решающая роль в том, что французской агрессии так и не удалось выйти за пределы Европы. Это страшно раздражало Наполеона, но не давало вспыхнуть полномасштабной мировой войне.
(При этом надо учитывать, что Лондон и Петербург по-разному смотрели на установление системы европейского равновесия. Помогая континентальным союзникам в борьбе с Наполеоном, англичане внимательно следили за тем, чтобы ни один из них не мог усилить свое влияние на континенте.)
Последней каплей, переполнившей чашу терпения Александра, стали, видимо, похищение французами герцога Энгиенского из баденского замка в марте 1804 года и его скоропалительная казнь. Объяснение, присланное официальным Парижем в ответ на запрос Петербурга, оказалось не только недипломатичным, но и попросту оскорбительным. «На жалобу Александра, — писал Н. И. Греч, — что принц Бурбонский (герцог Энгиенский Луи Антуан де Бурбон-Конде. — Л. Л.) захвачен был не во Франции, а за границею, на чужой земле, Наполеон отвечал, что вынужден был к тому интригами Бурбонов… «На моем месте, — сказал он, — русский император поступил бы точно так. Если бы он знал, что убийцы Павла 1-го собрались для исполнения своего замысла в одном переходе от границы России, не поспешил ли бы он схватить их и сохранить жизнь ему драгоценную?» {205} 205 Греч Н. И. Указ. соч. С. 333–334.
. Подобные намеки не могли не вызвать резкой ответной реакции.
Читать дальше