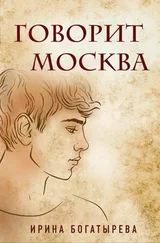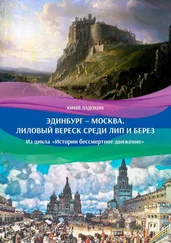Юрий ЛЕВИТАН
Говорит Москва!.

У меня плохая память. События десятилетий сплелись в единый клубок, и разделить нити отдельных эпизодов чаще всего я не в силах; путаю имена, даты. К горькому моему сожалению, я не вел никаких записей — и это тем более жаль, что порой я был свидетелем событий, которые без преувеличения могут быть названы историческими.
Итак, никаких надежд написать когда-нибудь мемуары у меня нет. И я уже смирился с этой мыслью. Но вот однажды, много лет спустя после войны, я выступал в Ленинграде. Как-то само собой случилось, что я прочел публике давнюю сводку Совинформбюро о прорыве блокады Ленинграда. Я воспроизвел не только текст, но все нюансы той интонации, с которой читал эту же сводку в сорок третьем году. И увидел, что многие в зале плакали, а у меня самого вдруг пошли по телу мурашки. Мы все будто окунулись в атмосферу тех тяжких лет, как если бы вернулся давно минувший день… Тогда я понял, что если мне не дана память на имена и события, то я обладаю профессиональной памятью на все, что связано со спецификой моей работы радиодиктора. Подобно актеру (а я, кстати, учился в театральном училище), я могу восстановить текст, воспроизвести интонацию, передать настроение, которое было когда-то.
Я стал этим пользоваться — очень нечасто, очень осторожно. И вот по мере того, как на каких-нибудь встречах или концертах, где собирались и ветераны фронта, и молодежь, я читал по памяти сводки Советского Информбюро и, как мне кажется, создавал у слушателей то настроение, которое когда-то с чуткостью барометра отражало состояние дел на фронтах войны, все больше и больше различных подробностей всплывало в моей памяти. Оказалось, что дело обстоит не так уж бедственно, что я помню значительно больше, чем предполагал. Очевидно, есть события такой силы и значения, что их не могут вытравить годы из самой слабой памяти.
…Война началась для меня со звонка из радиокомитета: "Срочно бегите на работу! Немедленно!" Голос тревожный. Но спрашивать, что случилось, по телефону не полагается. Одеваюсь. Бегу.
Радиокомитет. Семь утра. Тихий женский плач, суровые взгляды. Наперебой звонят корреспонденты из разных городов:
— Киев бомбят!..
— Над Минском вражеские самолеты…
— Горит Каунас… Что говорить населению? Почему нет никакого сообщения по радио?
Позвонили из Кремля: "Готовьтесь, в двенадцать часов правительственное сообщение".
Девять раз за день — с интервалами в час — я читал это небольшое трагическое сообщение, начинавшееся словами: "Граждане и гражданки Советского Союза!. Сегодня в четыре часа утра… без объявления войны германские войска напали на нашу страну…"
Я помню мажорный и гордый тон в эфире времен первых пятилеток: "Пущен Днепрогэс!", "Введена в строй первая домна Магнитки!", "Всем, всем, всем! Беспримерный перелет Чкалова через Северный полюс!".
22 июня голос Московского радио зазвучал сурово, сдержанно, мужественно. В нем было и горе, и вера, и надежда. В те дни мы все почувствовали такую ответственность на своих плечах, о которой прежде и не подозревали. Судите сами…
В июле немецкая авиация начала налеты на Москву. Мы работали тогда в здании Центрального телеграфа. Читаешь сводку — и вот даже сквозь изоляцию студии слышишь пронзительный вой сирены: воздушная тревога! Отдаленный гул, подрагивание стен — и в этой обстановке нужно полностью сохранить спокойствие и сосредоточенность. Передачи не прекращались.
Во время очередного налета бомба угодила во двор радиокомитета, — правда, не разорвалась. Здание задрожало, посыпались стекла, свет погас. У нас были включены приемники, и мы услышали, как берлинские дикторы на фоне маршей истерически выкрикивали последнее известие: московский радиоцентр разрушен!
Он действительно смолк. На десять — пятнадцать минут. А потом при свете нескольких лампочек от аккумуляторных батарей мы продолжали передачи, водя лучом по строчкам текста.
А сводки были одна другой тревожнее и малоутешительнее. В Москве уже был слышен отдаленный гул орудий. Берлинское радио передавало слова Гитлера о том, что "германское наступление на столицу большевиков продвинулось так далеко, что можно уже рассмотреть внутреннюю часть Москвы в бинокль".
Все население — старики, дети, домохозяйки — вышло на сооружение оборонительных рубежей. Мосты были покрыты надолбами. Витрины магазинов обложены мешками с песком. В небе висели заградительные аэростаты, Движение после 24 часов было разрешено только по специальным пропускам. Улицы погружены в темноту, окна завешены. Курить на улице было запрещено.
Читать дальше




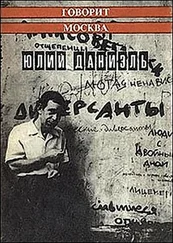
![Ирина Богатырева - Говорит Москва [litres]](/books/396418/irina-bogatyreva-govorit-moskva-litres-thumb.webp)
![Юрий Вафин - Говорит Вафин [litres]](/books/410003/yurij-vafin-govorit-vafin-litres-thumb.webp)