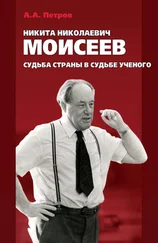Еще тогда на заочном курсе преподавал, да и до сих пор преподает, артист Валерий Гаркалин.
Я считаю, нам очень повезло, что на эстрадном факультете собралась такая мощная команда преподавателей. Вот такое странное стечение судеб, людей, фамилий, которые окружали нас, и того, что творилось в стране.
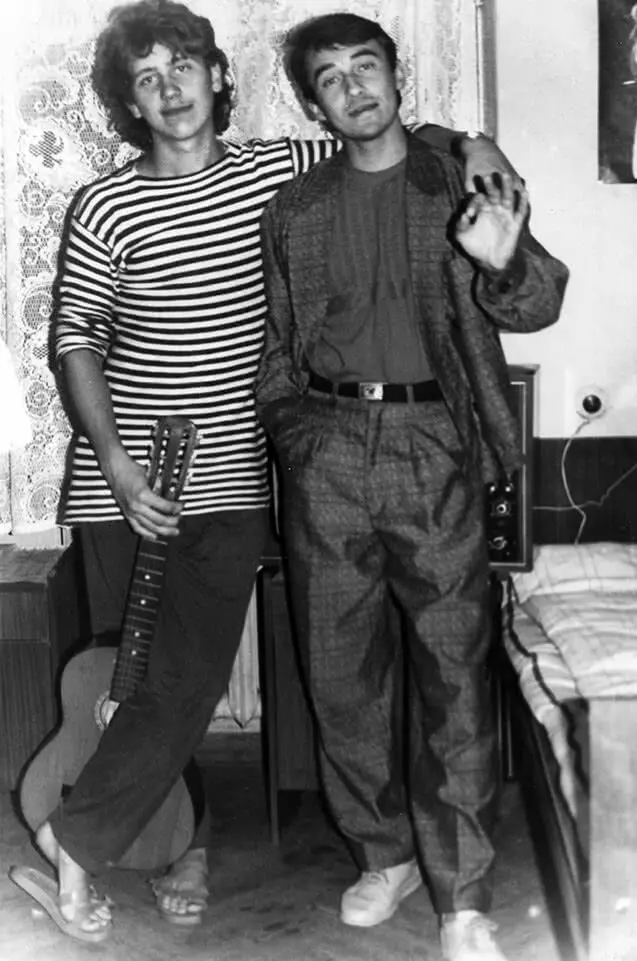
В ней рассказывается о том, как нам снесло башню…
Студенты у нас были очень разные.
Тогда Союз еще не распался, и в Москву по целевым направлениям приезжали на учебу группы из союзных республик и дружественных стран. Наш институт был институтом имени Дружбы народов. Например, у нас была осетинская студия на курсе Музыкального театра, афганская театральная студия, они жили на 4‐м этаже в общежитии на Трифоновской. В то голодное время они покупали у нас чайники, самовары, утюги, отвозили на родину и продавали там, а сюда привозили бисер и сдавали его в комиссионные магазины. Так как у одного человека принимали ограниченное количество бисера, они предлагали нам, студентам, сдавать этот бисер в комиссионки за процент, на что мы с удовольствием соглашались, ведь минимальная стипендия была 50 рублей, и этого было маловато.
На наш курс по направлению из Монголии взяли режиссера Марину Дыбкееву на режиссерский факультет, которая не имела особенных талантов, но, видимо, должна была по возвращении домой поднимать монгольскую культуру.
Был еще у нас режиссер Андроник Ерицян из Еревана, о котором я уже писал, последователь Енгибарова, очень пластичный. Судьба Андроника сложилась странно – он куда-то пропал после окончания института.
Афганцы жили очень хорошо: еда, одежда, ковры. У одного даже был телефон. Целая афганская мафия.
Мы получали стипендию. Если ты сдал сессию на четверки, то получал 50 рублей, если сдал на пятерки – 60 рублей. Слава с Лешей снимали квартиру – им помогали родители. Рядом с нами жила еще одна наша однокурсница – Гайлутэ Мурашкайтэ из Прибалтики, тоже режиссер. Она вернулась потом домой и работала там на телевидении.
Каждому из режиссеров, а у нас их было четыре, давали возможность брать любых студентов для своих постановок, а потом на зимней и летней сессиях каждого курса показывать свои работы комиссии.
Итак, у нас учились актеры: я, Александр Демидов, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац, Мария Бычкова, Сергей Перевозкин, Ирина Кучеренко, Олег Павлов, Петр Изотов, Светлана Кара, Дмитрий Охорзин, Анна Касаткина. Аня была кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике, очень пластичная. Потом она стала женой Лени Бараца. Светлана Кара была из Молдавии. Сергей Перевозкин приехал с Алтая, был последователем и поклонником Василия Шукшина.
Надо сказать, что сам факт поступления в институт еще не означал, что все станут потом профессиональными актерами и режиссерами, что будут востребованы в выбранной ими профессии. Например, на втором курсе за профнепригодность отчислили Дмитрия Охорзина и Марию Бычкову.
Самыми талантливыми, способными и активными на нашем курсе были Аня Касаткина и Сережа Перевозкин. Режиссеры часто приглашали их в свои работы. А вот нас, «квартетовцев», никто особенно никуда не звал. Говорили, что мы были совершенно невменяемы. И это действительно было так.
Хочу отдельно вспомнить Петю Изотова. Мы уже доучились до 4‐го курса. Летом все разъехались – это лето 92‐го года. И в августе случается страшная трагедия – Петя погибает в автокатастрофе.
Прямо перед смертью Петя близко сошелся с Мишей Хлебородовым и Мартой Могилевской, то есть вошел в такой элитный клуб клипмейкеров. И вообще, я так думаю, если бы не эта страшная катастрофа, может быть, нас было бы не четверо, а пятеро. Мы тогда были молодые, и у нас ни у кого потерь особых не было – были живы родители, друзья. И тут вдруг такая трагическая гибель… Произошла эта катастрофа 1 августа, и шестнадцать дней Петя не приходил в сознание – он был в коме. 16 августа он умер, и мы все приехали на его похороны в Москву.
Мы сошли с ума от свободы, от того, что мы поступили, что у нас такие крутые педагоги. Мы ходили на все занятия, все было так интересно! Энергия била из нас во все стороны – в перерывах между предметами я прыгал через столы, Слава очень хорошо изображал Цоя, Леша играл на рояле, Светлана Кара нам подпевала голосом Жанны Агузаровой. Все это было шумно, весело и неуправляемо.
Читать дальше
![Александра Демидов Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres] обложка книги](/books/409199/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj-cover.webp)
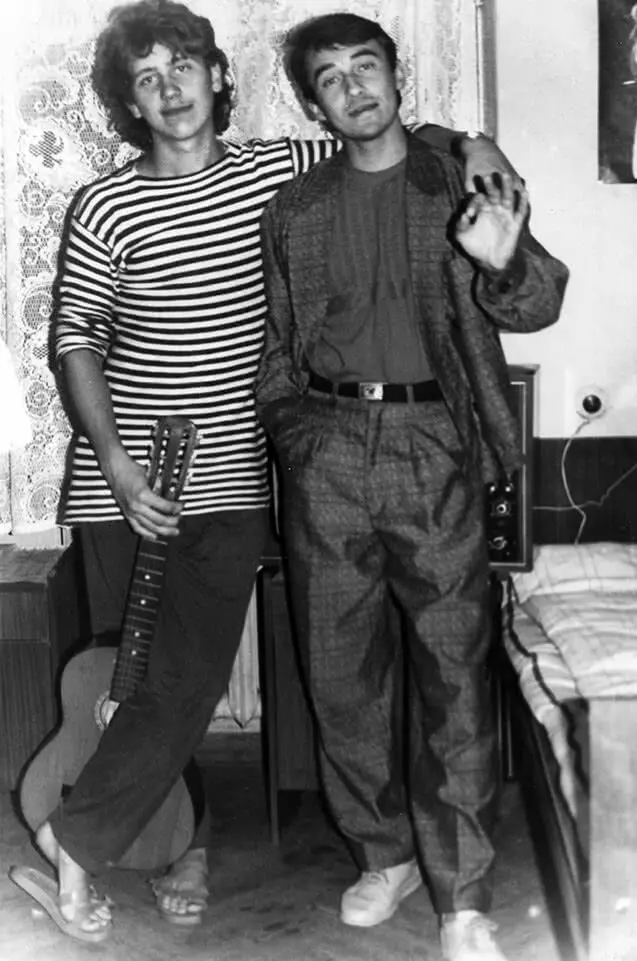
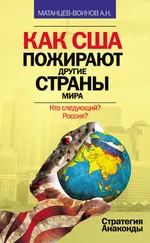
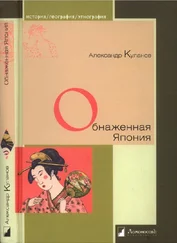
![Татьяна Ван - Театр тьмы [litres]](/books/384603/tatyana-van-teatr-tmy-litres-thumb.webp)
![Сэйдж Типпот - США. Полная история страны [litres]](/books/389961/sejdzh-tippot-ssha-polnaya-istoriya-strany-litres-thumb.webp)
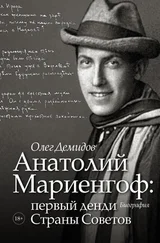
![Дин Мовшовиц - От идеи до злодея. Учимся создавать истории вместе с Pixar [litres]](/books/418656/din-movshovic-ot-idei-do-zlodeya-uchimsya-sozdavat-i-thumb.webp)
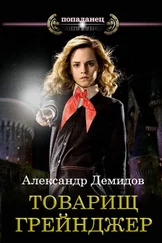

![Александра Черчень - Тайна Изумрудного города. Шанс для шута [litres]](/books/429278/aleksandra-cherchen-tajna-izumrudnogo-goroda-shans-thumb.webp)