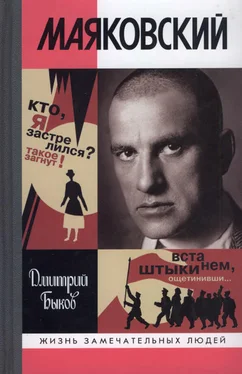Первое вступление в поэму вдохновило Семена Кирсанова на продолжение неоконченного труда. Он сочинил поэму «Пятилетка» (1931), в прологе которой клялся «перед пепла горсткой» — рифма была «Маяковский» — продолжить и завершить последний труд своего учителя. И он таки продолжил и завершил — уже сплошным ямбом. Литературная энциклопедия 1933 года констатирует: «В поэме, являющейся по замыслу К. продолжением «Во весь голос» Маяковского, дана грандиозная картина строящегося социализма. Высокое художественное качество сочетается в ней с заостренной политичностью и публицистичностью метода. Однако и в «Пятилетке» К. еще не вплотную подошел к диалектическому осмыслению социалистического строительства. Классовая борьба не занимает в поэме должного места, техническая реконструкция хозяйства дана в некотором отрыве от социальных сдвигов, происходящих в стране. Это указывает на неизжитое до конца лефовское мировоззрение Кирсанова».
Представляете, что бы они сделали с Маяковским, явись ему в самом деле фантастическая мысль писать поэму о пятилетке? Представляете в исполнении Маяковского, пятистопным ямбом, изображение технической реконструкции на фоне социальных сдвигов? Только после этого комментария понимаешь, чего он на самом деле избежал; никакая личная драма не могла бы подвигнуть его к самоуничтожению решительнее, чем нарастание подобных требований к стихотворной продукции. «Во весь голос» — последний и самый неутешительный его эксперимент над собой, наглядная демонстрация рапповских методов самовоспитания. «Нигде кроме, как в Моссельпроме» — сочинение куда более цельное и осмысленное.
Можно, конечно, предположить, что это просто начинался новый этап его творчества — вернулся же Малевич на старости лет к фигуративности; может, и Маяковский, наскучив освоенными территориями, решил прорваться во владения русского классического стиха, и мало ли кто в начале нового периода писал коряво? Это естественно, автор осваивает новую технику… Все это было бы убедительно, если бы автор совершал этот набег на новую территорию по велению сердца, а не социального заказа; если бы он стремился к классической простоте и глубине, а не к неоклассицистскому торжественному громыханию и пафосу. Неорганичность новой манеры слишком бросается в глаза — лучшее, что есть в поэме, написано в прежней стилистике Маяковского. «Во весь голос» — свидетельство не эволюции, а насилия над собой; именно в этом — причина подспудных мрачных предчувствий, сопровождавших ее появление. Вместо понятной радости при виде мастера, выходящего на новый уровень, слушатели испытывали тревогу за поэта, загоняющего себя в тупик.
Маяковский и сам не особенно любил эту вещь, читал ее без подъема, «потухшим» голосом. Советская власть, напротив, растащила ее на цитаты.
ПОСЛЕ ЖИЗНИ: ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ И ДАЛЕЕ
1
Нам предстоит сейчас говорить о вещах довольно сложных и субъективных, поскольку чем ближе к настоящему — тем субъективнее: история еще никаких итогов не подвела. Но мы попробуем, невзирая на катастрофическое падение планки во всех вообще нынешних разговорах. Чем ближе к финалу — жизни, книги, эпохи, — тем больше соблазн обратиться к уважаемым товарищам потомкам: не вечен же этот уровень. Должны прийти люди, которых будет интересовать правда, а не конъюнктура; которые не будут зависеть от навязанного, искусственного оглупления, которые будут дышать воздухом, а не сероводородом. Они будут. И с ними хочется говорить.
Самая яркая полемика о нем, вероятно, — возражения Александра Гольдштейна («Энергейя и Эргон революции») на книгу Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского» (1983). Карабчиевский прожил всего 54 года и покончил с собой в перестроечной Москве в 1992 году; многие люди, связанные с Маяковским, пошли «большим маяковским путем», как назвала Ахматова этот вариант судьбы. Судьба Гольдштейна, знавшего Карабчиевского и любившего его, сложилась не лучше: он прожил всего 49 лет и умер в Тель-Авиве от рака легких в 2006 году. Он один из немногих, кто, искренне уважая Карабчиевского, попробовал ему серьезно возразить.
Гольдштейн субъективен, он по преимуществу эссеист, и многие вещи, угаданные им с великолепной точностью, компрометируются иногда самим его тоном, довольно кокетливым — так многие писали в девяностых, но особенность Гольдштейна в том, что в литературоведческих его книгах (прежде всего в «Расставании с Нарциссом», 1997) точности и смелости больше, чем кокетства. Не то в романах, но о романах мы не говорим. Просто чтобы проиллюстрировать — не столько его тогдашнюю прозорливость, сколько глубину падения России в последующие 20 лет, — приведем один его фрагмент о так называемом неоевразийстве:
Читать дальше