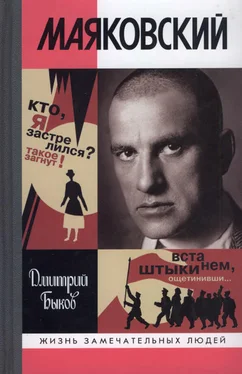Невелика честь — злорадствовать: вот, мол, проговорил десять лет не своим голосом, а когда наконец взялся за оставленный инструмент — голоса уже не оказалось… Голос был при нем и в последних любовных стихах он слышен (сквозь «бронзы многопудье», которого и здесь хватает). В последней поэме взята фальшивая интонация, и никакой искренностью здесь не пахнет. Обманула же столь многих эта насквозь декларативная вещь, в которой нет ни одного по-маяковски яркого образа, — именно в силу своей традиционности: как ни приучал Маяк своего читателя к «лесенке», дольнику, свободным сменам ритма, — читатель воспитан на классической поэтике, и, может быть, она в самом деле сладкозвучнее. Читателю — и слушателю — свойственно любить ямб и верить тому, что этим ямбом «подсюсюкнуто». Большая часть «вступления в поэму» написана классическим пятистопным ямбом (некоторая часть — даже и александрийским, шестистопным, приберегаемым для особенно торжественных случаев). Маяковский иногда к пятистопнику прибегал — в частности, в письме Татьяне Яковлевой:
Иди сюда, иди на перекресток
Моих больших и неуклюжих рук.
Сказано опять-таки не без корявости — трудно представить себе такое «скрещенье рук», разве что они скрещиваются за спиной у любимой, прижатой к груди. Однако все сглаживается звучанием. Ямб у Маяковского тем убедительнее, что для читателя остается неожиданностью: мы приучены к синкопам, резким переходам, раскачке — а тут вдруг регулярный стих, стало быть, автора всерьез пробрало. «Во весь голос» — уступка именно этому читательскому вкусу. Такой читатель скользит взглядом по строке, не особенно вдумываясь в содержание; Маяковский заставил этого читателя ценить не сладкозвучие, а смысл, метафору, поворот лирического сюжета — поскольку содрал лак с русского стиха. Теперь он вернулся к традиционной технике — потому, вероятно, что кризис смыслов сделал невозможным содержательное высказывание. И тут стоит поспорить с Карабчиевским вот по какому пункту: вещь разошлась вовсе не на пословицы. Это вам не «Горе от ума» и тем более не «Облако в штанах». Поэма разошлась на цитаты в юбилейных статьях, на газетные заголовки — и только в этом качестве ушла в фольклор: большинство расхожих цитат из «Голоса» употребляются с явной иронической дистанцией. «На горло собственной песне» — штамп, которым сопровождаются разговоры о самоцензуре, хотя у Маяковского речь идет о другом; «все сто томов моих партийных книжек» — расхожее обозначение сервильной графомании; «мне и рубля не накопили строчки» — говорится при получении гонорара, оказавшегося ниже ожидаемого; «шершавым языком плаката» — пренебрежительная оценка лобового и неуклюжего текста; «мы диалектику учили не по Гегелю» — когда собеседник делает грубую ошибку в цитате или дате; «снимите очки-велосипед» — столь же пренебрежительное обращение к умничающему другу. Цитаты из поэмы ушли в народную речь не напрямую, а лишь после многократного газетно-плакатного употребления — почему и употребляются так же издевательски, как большинство газетных штампов. Именно эта готовность стать штампом — отличительная черта самых звучных строчек «Голоса»; вообще в народ (и в заголовки) уходит далеко не только лучшее, афористичное, звучное, — как реплики Грибоедова или морали Крылова, — но и банальнейшее, и просто агрессивно насаждаемое, так что это, увы, не критерий.
Вся поэма Маяковского, претендующая на подведение биографических и творческих итогов, — на самом деле попытка самооправдания, тем более странная, что никто ни в чем не обвиняет автора, и непонятно, кому он отвечает, столь агрессивно утверждая именно свою поэтическую правоту. По идее, она должна быть самоочевидна — текст у Маяковского обычно стоит за себя. Вся поэма — оправдание довольно сомнительной стратегии, а именно постановки собственного дара на службу утилитарности. «И мне б строчить романсы на вас, доходней оно и прелестней» — но разве одно другому мешает? Пиши себе агитки в свободное от основной поэтической работы время, как Пушкин — если вспомнить старое тыняновское сравнение — совершал набеги на соседние поэтические территории, сочиняя альбомную лирику; никто не отрицает права поэта на агитпроп — при наличии у него других заслуг и занятий. Сознательное противопоставление лирики и поденщины — прием глубоко фальшивый, как и всякое противопоставление вещей связанных и даже взаимообусловленных. Это все равно, как если бы некий автор стал нахваливать свои переводы, доказывая, что именно они суть почтовые лошади просвещения, а писать оригинальную лирику он запретил себе сознательно. Любому поэту и непоэту ясно, что такая поденщина очень быстро выдохнется, а заряжаться поэтической энергией автор способен лишь при работе над своим, личным, внутренне мотивированным, — остатки и излишки этой энергии могут уходить хоть на рифмованную рекламу, но источником ее остается лирическая медитация; если ее нет, никакая тренированность не спасет.
Читать дальше