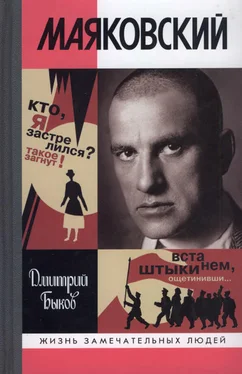А бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел: люби!
(1915)
Араратов ждете?
Араратов нету.
Никаких.
Приснились во сне.
А если гора не идет к Магомету,
То и черт с ней!
(1918)
Миллионы людей верят мифу, сочиненному Маяковским в пятнадцатом году, — о жестокой возлюбленной, адской ревности, счастливом муже и суицидально одержимом любовнике. А между тем инициатива в этих отношениях принадлежала Маяковскому, и Лиля вспоминала, что не знала с осени 1915 года ни минуты покоя — это был «ураган, огонь, вода»; Маяковский лежал на полу в квартире на Жуковского и жаловался Осе — «Лиля меня не люууубит!» — и Ося его утешал. В общем, как сказано в «Фаусте»: «Кто к кому привязался — мы к тебе или ты к нам?» Все разговоры о Брике-чекисте и Лиле-шпионке вряд ли возникли бы, если бы не их близость к Маяковскому; в 1915 году Лиля и от футуристов, и от революционеров одинаково далека. (Семья вообще была совершенно аполитичная — в ночь с 24 на 25 октября 1917 года играли в «тетку», упрощенный вариант «кинга».) Ни с Горьким, ни с Аграновым она бы без Маяковского вообще не познакомилась. Близость Лили к чекистам преувеличивают давно, да и сама она говорила: «Для нас чекисты были святые люди!» — но если кто и был к ним близок, так это организаторы и посетители «Кафе поэтов». Вообще без Маяковского ничего бы не было — ни роли хозяйки лефовского салона, ни знакомства с Луначарским и Каменевым, ни даже переезда в Москву, а если бы она куда и переехала — так это, вслед за матерью и сестрой, за границу. Говорить о соблазнении Маяковского и его рабской зависимости от Бриков — значит принимать на веру лирику и гордо игнорировать факты; это он их поработил, а не они его, он вторгся в их семью и зажил там третьим, он их содержал — но Брик редактировал его журнал (и кто кого содержал до семнадцатого года?); он сделал из Лили то, чем она была в двадцатые, — но сделал ли он ее счастливой? «Я любила Володю, потому что его полюбил Ося».
Впрочем, слишком верить ее признаниям тоже не следует: сохранившиеся письма говорят о том, что — любила, и опровергают даже миф о сексуальной дисгармонии, о преждевременной эякуляции и пр. (Янгфельдт все это зачем-то цитирует и подробно анализирует.) «Ты мой маленький громадик! Мине тибе хочется! А тибе?» (декабрь 1921-го, из Риги в Москву). «Все по сравнению с тобой дураки и уроды» — это ведь она ему писала, а не он ей. Ему был нужен миф об укротительнице — «Пошла играть, как девочка мячиком», — который подхватили все, начиная с Асеева, — но инициатива в этих отношениях принадлежала ему и правила диктовал он, что очевидно, в частности, из его писем к ней периода «Про это». Семейный миф поддерживали все трое — перед окружающими и даже друг перед другом, — но сам этот миф придумал он, демиург, драматург, и все покорно разыгрывали роли в его пьесе про «ослепительную царицу Сиона евреева». Все это изобрел он, ему так было нужно. Реальную Лилю придумал и воспитал Ося Брик, который, по уже цитированному определению Пунина, «оставил на ней сухую самоуверенность» и внушил множество собственных мыслей; Лилю литературную придумал Маяковский. Какой она была в действительности — вряд ли знала она сама, да это и неинтересно. Она была переимчива, обладала отличным вкусом и не сопротивлялась двум своим Пигмалионам. Впрочем, Ося тоже не сопротивлялся мифу о равнодушном и умном скептике, каковым он, судя по отношениям со своей второй женой Евгенией Жемчужной, был не всегда и не со всеми. Видимо, он чувствовал, — интуицией Господь его не обделил, — что у Володи великое будущее и «что сила — там», как сформулировала Цветаева. Очень возможно, что без Маяковского в двадцатые Брикам не пришлось бы общаться с чекистами, но зато в тридцатые они уцелели только потому, что считались «семьей Маяковского». Хотя, если бы не он, Ося-то уж точно уехал бы: и языки знал, и Европу любил.
Роман в обычном смысле продолжался всего пять лет да еще пять тянулся на автомате (для нее это очень долго: обычная связь заканчивалась за месяц, иногда за несколько недель). В двадцать четвертом все закончилось — «свободен от любви и от плакатов», — но продолжалось как легенда, как дань традиции, как тройственный союз талантливых и независимых людей, которым вместе было удобно, по крайней мере до поры.
4
Нам предстоит теперь разобраться, почему эта конфигурация так типична для русской литературы второй половины XIX — начала XX века, в чем тут, собственно, дело — и почему Чернышевский, роман которого перечитывает перед смертью Маяковский, а весь следующий год неустанно читает Лиля, так тесно связал революцию с семейным вопросом. Чернышевский с любвеобильной Ольгой Сократовной, Тургенев и чета Виардо, Герцен-Гервег-Огарев-Захарьина («Мы четыре звездочки, и как нас ни расположи, всё будем блестеть») — что это, собственно, было?
Читать дальше