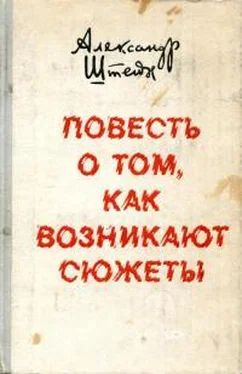Одна — и все-таки отказалась эвакуироваться, когда была возможность.
Работала в медицинской лаборатории, по совместительству изготовляющей кисель из столярного клея, один из деликатесов блокады.
Снова наотрез отказалась эвакуироваться, когда снова представилась возможность.
Порт приписки — Ленинград.
Вот уже и святой Исаакий возник в окулярах бинокля.
В сентябре сорок первого он оказался моим самым близким и непосредственным соседом, если не считать Николая первого в чугунной каске.
Вот уж не гадал, не думал!
Я сдавал другому политработнику дежурство по кораблю и, стянув с рукава голубую повязку «рцы», отличающую дежурного от обычного морского смертного, собирался в корму, в каюту (сладостно отоспаться!), когда внезапно появившийся с берега Петр Яковлевич Савин, комиссар корабля, хмурясь, вручил мне предписание свыше.
Прощай, «Октябрина»!
Предписывалось немедля «убыть» в Таллин, в части морской пехоты — назначался туда в качестве специального корреспондента военной центральной газеты «Красный флот». Приказ подписал народный комиссар Военно-Морского Флота адмирал Кузнецов.
И по сей день это назначение, свалившееся как снег на голову, остается загадкой: ни я (ленинградец), ни редакция (находившаяся в Москве) не имели друг к другу никакого отношения.
Жаль было разлучаться с кораблем, с его раз навсегда заведенным распорядком от подъема флага до спуска, хотя, признаюсь, меня, недавнего штатского человека, и тяготила эта тотальная регламентация. Наверно, прискучивает песчинке в часах пересыпаться из сосуда в сосуд.
Правда, в те дни регламент корабельной жизни то и дело нарушался: то крик сигнальщика «Воздух!», то просьба с берега «дать фрицам прикурить». Линкор шел в атаку и зенитными орудиями и своим главным калибром.
После одного такого нашего артиллерийского налета, когда корабль бил обоими бортами по северному берегу, поверх Кронштадта, и не только в кронштадтских домах, но даже у нас на корабле от сотрясения полопались электрические лампочки, командир корабля, контр-адмирал Михаил Захарович Москаленко, пригласил меня к себе в каюту.
Это была честь для меня, рядового политработника.
Контр-адмирал не выделялся особой учтивостью и по внешней повадке и по речи был грубоват, и прав Фадеев, писавший о нем в своих ленинградских очерках, что «если действительно существуют на свете морские волки, то контр-адмирал Москаленко, несомненно, первый среди них». Фадеев писал, что голос Москаленко «продут и прополоскан ветрами всех широт до предельной сиплости, и все же, если он гаркнет, осердясь, это слышно по всему кораблю». Что верно, то верно!
Ходил он по кораблю в сношенных тапочках, видно, болели ноги, впрочем, и это тоже была «шикарная» привычка — ходить по кораблю в тапочках.
Решив, очевидно, ввести «корабельного» литератора в курс дела, контр-адмирал с угрюмоватым гостеприимством показал мне на стул и ткнул пальцем в лежавшую на столе карту-двухверстку. Палец уперся в Келломяки (нынешнее Комарово), близ Териок (нынешнего Зеленогорска).
В Келломяках я провел свой последний предвоенный день и свой первый день войны.
Главный калибр ударил по Келломякам, по железнодорожной платформе, так хорошо знакомой; с берега на линкор сообщили: тут накапливаются подразделения финской наступающей пехоты, хорошо бы их стукнуть. Вокруг стояли дачи, в том числе и та дача Ленинградского Литфонда, на которой я жил.
Ударил главный калибр несколько раз — берег позвонил, сказал: «Хватит!»
Еще бы не хватит, подумал я вслух, вспомнив, как утром 22 июня, еще не зная, что началась война, докрашивал скамейку на литфондовской даче. Я ухмыльнулся, и контр-адмирал, не разгадав, естественно, причин моего внезапного веселья, нахмурился больше обычного и пробурчал, что я могу быть свободным.
Трагическое соседствует со смешным, и не только в пьесах Чехова и хрониках Шекспира, но, как ни странно, и в жизни тоже, на войне тем более.
По боевому расписанию меня определили в комиссары кормы. Стоял во время тревог возле зенитных автоматов. Зенитчики были весьма и весьма загружены работой в эти месяцы: немцы не оставляли корабль в покое ни на один день, стоял ли он у стенки или на Большом кронштадтском рейде. Заняты были делом и подносчики снарядов, передавая конвейером из рук в руки снаряды из погребов к автоматам. Ни сами зенитчики, ни подносчики снарядов нимало не обращали внимания на опасность быть убитыми: им попросту некогда было об этом думать.
Читать дальше