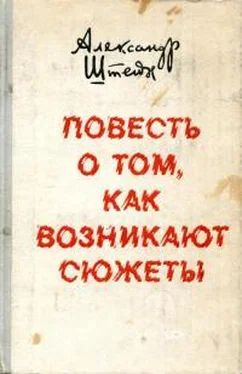— Помнишь, Олеша сказал нам, что лучшее о смерти и вообще лучшее в литературе мира — «Смерть Ивана Ильича»? А вот я прочитаю тебе и кое-что другое.
И он прочел:
«Ты ничего такого не чувствуешь? — спросил он.
— Нет. Просто хочется спать. — А я чувствую, — сказал он. — Он только что услышал, как смерть опять прошла мимо койки. — Знаешь, единственно, чего я еще не утратил — это любопытство, — сказал он ей».
Мы опаздывали, но он продолжал читать.
«Смерть пододвинулась, но теперь это было что-то бесформенное. Она просто занимала какое-то место в пространстве. — Скажи, чтоб она ушла. — Она не ушла, а придвинулась ближе. — Ну, и несет же от тебя, — сказал он. — Вонючая дрянь…»
Герман положил книгу, помолчал.
— По-моему, это гениально.
Перечитывал ли он в свои дни страданий «Снега Килиманджаро» Хемингуэя, отрывок, который он читал мне тогда вслух? Не знаю.
Может быть, и перечитывал. В ту пору, когда он прочел впервые Хемингуэя, и романы, и рассказы, это было до испанской войны, не было предела его восхищению и изумлению. После войны сорок первого — сорок пятого как-то сказал мне, что перечел изумившую его в свое время «Фиесту» — не понравилось… А «Снега Килиманджаро» любил и не менял своей первой оценки…
— Итак, я готов к визиту в милицию. Голова вымыта на славу, побрился до раздражения кожи, надел свой выходной костюм, правда уже блестевший в локтях и на заду, дребезжаще-старушечьим голосом наказал записывать, кто мне звонил. Не забыл втыкнуть пугливо жавшимся к стенке моим ближним, что они обещают передать, кто звонил, и всегда забывают, отчего люди обижаются на мою нечуткость, хотя нечуткость-то как раз и не моя… Затем, выйдя, я решил пройтись пешком вдоль Мойки и затем уже на любимую мою Дворцовую площадь. Так я и сделал. Меня удивляет несколько, что прохожие, все как один, оборачиваются и смотрят мне вслед — разумеется, в Ленинграде я популярен, но не настолько же.
Быть может, люди войны в годы войны научили его защищаться от страха смерти, да и от самой смерти — иронией.
И он защищается.
Иногда — юмором. Солдатским, грубоватым.
Иногда — иронией. Тонкой и печальной.
Как строчки последних чеховских писем — ведь он их то и дело перечитывает.
Как чеховское последнее — «Их штербе»…
Книги по медицине, а главным образом их авторы, люди, о которых в книгах этих писалось, все они вкупе составляют как бы часть его существования, часть немаловажную. Все равно, знакомы ли они ему лично или незнакомы, то ли это Мечников или скромнейший сестрорецкий врач Слупский, доктор ли Иноземцев, хирург Бурденко или неведомая никому врачиха, чьи непритязательные записи о полевом лазарете публиковались в провинциальном альманахе.
И персонажей для своих книг выбирает преимущественно с медицинским уклоном. Неравнодушен, как известно, к сыщикам, но те все-таки, пусть не обижаются за правду, идут вторым эшелоном.
А в первом — люди профессии, каковую он почитает за благороднейшую и чистейшую в человечестве.
Такой, как, скажем, доктор Калюжный — нелюдим, врачевавший в сельской глуши. Традиция тут шла не от светского, преуспевающего доктора Иноземцева, чье имя прославлено одноименными каплями, а именно от солдатского лекаря Пирогова.
Название пьесы, где угрюмая фигура Калюжного возникла перед зрителями, вызывающе ассоциативно.
«Сын народа».
Непримиримый Калюжный был не прототипом автора — слаб человек! — авторским идеалом.
Из пьесы нелюдим уходит на экран.
Но Калюжного Герман от себя не отпускает, вместе с ним он на войне, только Калюжный становится Устименко, сохраняя, впрочем, свою маратовскую непримиримость, свою мрачноватую угловатость, презрение к показному, душевную девственность, не поколебленную немыслимыми катаклизмами столетия.
И своих героинь ищет после Антонины из «Наших знакомых» в медицинской среде. Так написались «Сестры», пьеса об обороне Севастополя в прошлом веке. А в сорок втором, когда Герман служил на Северном флоте, сестры воскресают в повести «Медсестра Надя Гречуха».
Рассказы о Пирогове, родившие «Сестер», написал до войны, помню, как он читал рассказ «Буцефал», который показался лучшим из написанного им.
И «Буцефал» воскреснет спустя годы в сценарии «Пирогов».
Были и упоминавшиеся подполковник медицинской службы Левин, и Ашхен Оганян, была документальная повесть «Доктор Слупский».
Впрочем, сам до болезни к врачам никогда не обращался, напротив. Не жалует санаториев и домов отдыха, искренне не понимает, зачем люди туда едут. Не знает своего давления. Веса. Состава крови. На него не заведены, как на остальных всех советских смертных, санаторные карта, нигде, ни в каких поликлиниках нет истории его болезни. Да и болезней, в общем, если не считать насморков, головных болей, легких простуд, тоже нет.
Читать дальше