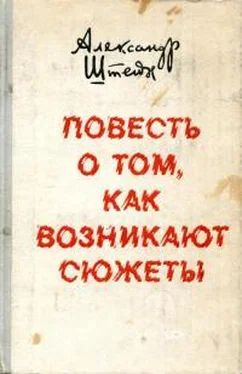«…И уж, как правило, наше поколение не читает друг друга. Это даже считается как-то вроде некрасиво — прочитать. Как-то мелко и недостаточно модерно».
Он-то читал много, следил за всем, что печаталось в журналах, читал и хорошее и дурное — все было ему интересно.
Я заметил, что он испытывает дурно скрываемое недоброжелательство к людям, которые умеют слушать только себя…
Которые добры оттого, что им все равно.
Которые милы оттого, что не хочется сердиться, чтобы, не дай господи, не нарушить собственное душевное равновесие…
Привлекало его талантливое умение слушать других и его не формальный, а по существу интерес к тому, что делают его товарищи, друзья — в литературе, в жизни.
«Козинцев написал грандиозный сценарий «Гамлет». Я, конечно, человек темный, но, по-моему, у Г. М. получилось лучше, чем у Уильяма».
Не могу сказать, что он щедр на пустые и вежливые комплименты, в частности и ко мне, к моим пьесам. Нет, он не добренький, каким бывают, в сущности, глубоко равнодушные люди.
Поэтому так дорога была мне его реакция на одну из моих пьес, а именно на «Океан». Послал ему рукопись и получил сразу же телеграмму, в которой говорилось, что он прочитал пьесу за ночь. За телеграммой следует большое письмо. В нем сызнова возвращается к излюбленной теме — о моде, о том, что́ есть текст и что́ есть подтекст:
«…И напрасно ты, споря со мной, защищал как-то в Москве систему подтекста. Неправильны все подтексты, нужно, чтобы текст был глубоким, не болтовней, а просто чтобы везде была мысль… А вот когда персонажи, не умея думать, болтают, тогда и нужен подтекст — понял?»
Тетка из Швеции.
«У меня месяц прогостила тетка. Заболела тут, стало ей скверно с сердцем и простудилась к тому же. Ну, 78 лет! Удивительная старуха!»
Тетка приехала к нему из Швеции. Русская, с незапамятных времен жившая в Скандинавии. Цитирует характеристики, которые дает тетка его, Юрия Павловича, знакомым, — тот же прием микропортрета, однако тут другой аспект — не его, Юрия Павловича, а приезжей тетки:
«Про А.:
— А он как у Чехова. Помнишь, Юрка, я давно читала… такой какой-то… Его еще где-то забыли…»
«Про Б.:
— Очень милая дама. Такие были в мое время, то есть еще во время моей молодости. Они говорили: «Да-да, Лувр, такая прелесть, развалины в Риме». Но — очень, удивительно милая. Она не врет, что актриса?.. Хотя она, вероятно, играет крестьянок…»
Сентенции тетки пришлись ему по вкусу еще и потому, видимо, что ими он прикрывал свою неприязнь к очередным веяньям моды.
«Про В.:
— И что она ко мне пристала с этим Кафкой! Я старая дама, ем свою кашу на воде, а она про этого червя! Кафка много написал, и не только про червя. И почему она все время кричит на своего мужа? У меня даже в ушах звенит. Какая хлопотливая крикунья! У них, наверное, много детей, она с ними привыкла. Ах, она редактор? У нее «Женская газета»? Нет? Она твой редактор? А зачем? Вот почему про Кафку…»
«Проводил я ее на самолет и, наверное, больше не увижу».
Не только литературный персонаж — авторская программа.«Больше всего на свете неприятны моему современнику характеры вялые, пассивные, те люди, по глазам которых видно, что их «хата с краю», — напишет он в автобиографии. И — процитирует Николая Заболоцкого:
Не дорогой ты шел, а обочиной,
Не нашел ты пути своего,
Осторожный, всю жизнь озабоченный,
Неизвестно, во имя чего!
И хотя герой трилогии Германа Владимир Устименко — не реальный человек, а всего лишь литературный персонаж, все, что сказал Юрий Павлович о героях своих документальных повестей, целиком относится и к вымышленному им, Германом, Володе Устименко.
Ведь это не только персонаж — это авторская программа.
Между мальчиком Володей из первой книги последней трилогии, тем самым ригористом Володей, отрицавшим Чехова, мальчиком Володей, сыном летчика Устименко, павшего в боях за революционную Испанию, и Владимиром Афанасьевичем Устименко, выступающим в Париже, в феврале 1965 года, на Международном симпозиуме по вопросам лучевой терапии, пролегла жизнь — большая, нелегкая жизнь целого поколения, точнее, нескольких поколений.
Трилогия, таким образом, отразила не только биографию врача Устименко, но и жизненный опыт самого автора, вобрала раздумья художника об этих десятилетиях нашей жизни, наконец, размышления автора о жизни собственной.
Место действия в последних страницах трехтомного повествования Юрия Павловича — Париж, 1965 год.
Читать дальше