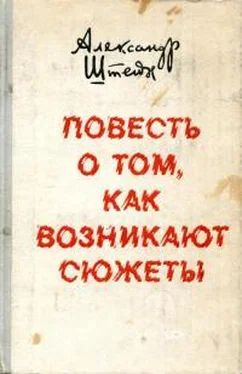Довженко искоса взглянул на него, продолжал не торопясь:
— Загрунтуйте ее, фанеру, и нарисуйте на ней море.
Тут он провел палкой по воздуху, чертя воображаемые волнистые линии.
— И, кстати, фильм ваш — морской…
Снова прочертил палкой волнистые линии.
— Море. Спокойное. Синее. А сюда, — ткнул палкой в воздух, — сюда надо вбить гвоздь. Обыкновенный длинный гвоздь. И повесить на нем спасательный круг. И сюда — гвоздь. А на нем — купальный халат.
Снова, презрительно поморщившись, глянул через окно на штакетник.
— Будут люди, которые посчитают это мое разумное предложение за фантазию, но я говорю это вам, надеясь, что вы меня верно поймете. Скажу вам так. Это будет красиво. А штакетник сожгите. Михаил Ильич, почему вы молчите, разве я неправ?
Ромм согласился, что в предложенной идее много заманчивого, однако тревожно поглядел на часы.
Но Александр Петрович не обратил внимания на роммовское беспокойство. Опершись на палку, помолчал. Задумался, возможно домысливая будущую картину — образ Черного моря, и берега, и пляж с морской галькой в подмосковном лесу…
Потом, словно бы очнувшись, посмотрел на стол с разбросанными разграфленными листами.
— Режиссерский?
— Да, кончаем, опаздываем к съемкам, — закивал Михаил Ильич.
Довженко спросил, кто будет играть Потемкина, он видел в Театре киноактера спектакль «Флаг адмирала», поставленный Э. Гариным и Х. Локшиной, там Потемкина играл Борис Тенин; припомнил, как в момент выхода Екатерины на авансцену вышла кошка; спросил, знаем ли мы, что запорожцы называли князя Таврического Григорием Нечесой и что взаимоотношения Григория Нечесы с Запорожской Сечью были наизапутаннейшими…
Время шло.
Незаметно Александр Петрович перешел на космос. Его занимала эта тема давно, он постоянно возвращался к ней, до выхода человека во вселенную еще было далеко, но он уже говорил об этом как о ближайшем дне человечества. И как всегда — по-своему, по-довженковски, поражая неожиданными метафорами, причудливостью сравнений, поэзией присущего лишь ему языка…
Схватился за голову — вспомнил: его давно ждет приехавший к нему на дачу, из города, сценарист.
И, помахав на прощание палкой, торопливо зашагал к калитке.
Ромм посмотрел вслед, засверкал глазами, прошипел:
— Вопиюще! Потеряны два драгоценнейших часа!
Закурил.
Подошел к окну. Поглядел на злосчастно торчавший штакетник.
— Море, — ядовито сказал он. — Синее. Спокойное. А в нем утонул почти целый рабочий день.
Выпустил дым.
— Слушайте, — сказал он проникновенно. — А вам не захотелось поклониться этому человеку? Вот так. Низко-низко. У меня, не скрою от вас, было такое желание. Хотя и злился. Если хотите знать, я боролся с этим желанием как мог. Понимаете, почему низко-низко? Я вам скажу. Тут только что был гений. Да, дорогой мой. Тут был гений. И… и давайте работать, нам-то с вами ничего больше не остается…
ТАЙФУН «ЭММА»
На четвертые сутки похода в моей каюте на «Адмирале Сенявине» поехали чемоданы, перекинулось вертящееся кресло, плексигласовая плита слезла со стола следом за пепельницей.
С шаловливостью, не свойственной этим массивным предметам, они пустились вперегонки взад-вперед по каюте. Лишь книги на полке, предусмотрительно забранные стальными прутьями, да лампа и вентилятор, крепленные по-штормовому, остались незыблемыми на положенных им местах.
Я взял с собой в путешествие два томика из собрания сочинений Гончарова — и не раскаялся.
Хотя ноги тоже начали выписывать неясные для нас самих узоры, я воспринимал все эти шалости двенадцатибалльного шторма с улыбкой, ибо только-только вслух перечитал полные веселого ужаса гончаровские строки:
«…ящики выскочили из своих мест, щетки, гребенки, бумаги, письма — все ездило по полу, вперегонки, кто скорее скакнет в угол или на середину».
В двенадцать ноль-ноль, как всегда, старший помощник командира крейсера, войдя в салон, произносил свое традиционное: «Прошу к столу, товарищи офицеры». Вместе с другими входили мы в кают-компанию. Хлеб не разложен, как обычно, на тарелках — тарелки бы слетели! Непременное на флоте первое отменилось: есть суп в тайфун, хотя бы и окрещенный уютным именем «Эмма», разумеется, можно наловчиться, однако опасно для одежды ближнего, не говоря уже о своей.
И вновь я заулыбался, добравшись кое-как, цепляясь за переборки, до своей каюты и найдя во «Фрегате «Паллада» соответствующее место:
Читать дальше