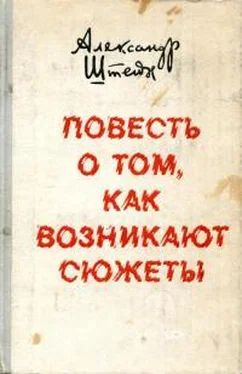Он и умер рано, сорока четырех лет от роду, оставив рукопись так и не законченного романа, начатого тогда в Болшеве.
Три раза в день мы отрывались от письменных столов, чтобы сбежать вниз, в столовую, не глядя ни на кого, быстро слопать свой завтрак, свой обед, свой ужин и, не теряя минуты, вернуться в свои кельи, к работе.
В это время года в Доме не было почти никого из знакомых кинематографистов, путевки продавались другим профсоюзам, и это нас вполне устраивало, незнакомые люди нам не мешали.
Однажды девица из Комитета по делам искусств, сидевшая за нашим столом, понизив голос, сообщила:
— А ведь вас тут не любят.
Кто не любит? Кого? Почему?
Разъяснилось.
Нас, троих, не любят из-за того, что мы вбегаем в столовую торопливо, едим торопливо и так же торопливо убегаем, ни с кем не общаясь.
Как бы теперь сказали — «некоммуникабельны».
Наша торопливость расценена как высокомерие, нежелание обращать внимание на простых людей.
Нас квалифицировали как зарвавшихся и оторвавшихся.
Все трое были и огорчены и озадачены.
Собрались в номере у Горбатова, чтобы обсудить создавшееся, очень расстроившее нас положение и попробовать рассеять атмосферу недоброжелательности, сгустившуюся над нашими бедными кельями.
Увы, поздно.
С утра приезжала новая смена — срок путевок этой истекал сегодня вечером.
И старая смена отдыхающих унесет легенду о нашей чванливости и высокомерии. И это — непоправимо.
Но урок был извлечен.
Приехала новая смена. Опять были совершенно незнакомые нам люди из других профсоюзов, но мы, умудренные, теперь не позволяли себе пробегать к своему столику, как в прошлом месяце, — напротив, степенно шли по столовой, приветливо кивая сидевшим за другими столами, желая им доброго утра или доброго вечера, а то и просто приятного аппетита.
И в самом конце срока путевок второй смены, когда и мы с Михаилом Ильичом шли к финишу и уже собирали чемоданы для поездки в Москву, в комнату Ромма постучались и вошли две немолодые женщины. В руках у одной было три цветка.
Им сказали, что и мы завтра покидаем Болшево, и пришли они по поручению всей смены отдыхающих поблагодарить нас троих за то, что, несмотря на нашу занятость, мы были неизменно и трогательно внимательны к отдыхающим тут, хотя и незнакомым нам людям.
И пожелали успеха двухсерийному фильму, над сценарием которого мы трудились. И — роману, который писал здесь Борис Горбатов.
И вручили нам с Роммом по цветку.
Оказывается, они были в полном курсе наших дел, о которых мы им никогда не говорили.
А третий цветок они просили передать Борису Горбатову, который уехал с утра в город, на Киностудию имени Горького, к Леониду Лукову, на съемки фильма по своему сценарию, и должен был вернуться в Болшево поздно ночью.
Они и это знали.
Чуть-чуть о Ромме и о Довженко.После всех обсуждений, поправок Тарле, замечаний художественного совета готовим окончательный вариант, — к вечеру режиссерский сценарий должен уехать к машинистке.
Мы покинули Болшево. Опаздываем к срокам — вот-вот начнутся съемки.
Работаем в Переделкине на открытой летней дачной веранде.
Постукивая палкой, не торопясь, поднимается по лесенке Александр Петрович Довженко.
Визит его внезапен — гулял по лесу, завернул.
Извинился, что помешал, сказал, что ненадолго.
Присел.
Глянул на раскинутые по столу режиссерские разработки, понимающе кивнул.
Оглядел веранду, взглянул через окно на штакетник, отделяющий дачу от соседней, покачал головой — с печалью и укоризной:
— Какое стихийное бедствие эти штакетники, боже ж мой, какое надругательство над гармонией природы, и над законами человеческой эстетики, и над самим человеком, не разумеющим, что творит.
Он был совершенно прав, Александр Петрович Довженко. Штакетники действительно пакостили природу.
Но сейчас нам было не до штакетников. Мы опаздывали к срокам.
Между тем Александр Петрович продолжал, как бы размышляя вслух:
— Если уж так назрела необходимость отделиться от соседа… или, быть может, отделаться?.. Ну, если уж полная безвыходность — в крайнем случае выдерните штакетник, выбросьте его вон, а еще лучше сожгите, чтобы никто более на него не позарился. И там, где был штакетник, соорудите стену из фанеры, сейчас я вам скажу, сколько ее вам понадобится… Думаю, листов двести. Ну, быть может, двести пятьдесят… Ну, триста, четыреста. Не больше.
Ромм, нервничая, закурил.
Читать дальше