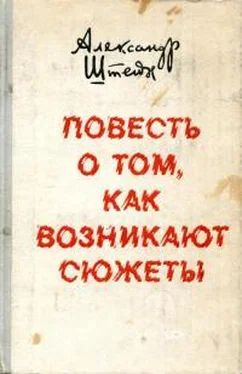В 1906 году Мейерхольд заносит в свой дневник разговор Чехова с актерами Художественного театра на репетиции «Чайки». (Цитирую по журналу «Зрелища» за 1923 год.)
«…Один из актеров рассказывает о том, что за сценой будут квакать лягушки, трещать стрекозы, лаять собаки. «Зачем это? — недовольным голосом спрашивает Антон Павлович. — Реально, — отвечает актер. — Реально, — повторяет А. П. Чехов, усмехнувшись, и после маленькой паузы говорит: — Сцена — искусство. У Крамского есть одна жанровая картина, на которой великолепно изображены лица. Что, если на одном из лиц вырезать нарисованный нос и вставить живой? Нос реальный, а картина испорчена».
Что поделаешь!
Правда искусства и правда жизни текут рядом, как Кура и Арагви у въезда в Тбилиси, со стороны Военно-Грузинской дороги. Помню, на меня это произвело впечатление неизгладимое — течение двух разных по цвету и не сливающихся рек, Рядом, но не сливаясь.
Правда искусства не слепок с жизни, не ее повторение. В школах живописи, кажется, этот термин существует как профессиональный — повторение. Искусство не может повторять.
Что же, разве на свете могут быть две правды? Нет, правда одна. Однако правда жизни и правда искусства не равнозначны и не однозначны. Русла, по которым текут они, извилисты, как русла горных рек, и, как горные реки, своенравны, необычны, бурливы и — не похожи.
Эти балтийские и среднеазиатские размышления хочется закончить строчками из письма Чехова. Он писал редактору журнала «Мир божий» Ф. Батюшкову из Ниццы 15 декабря 1897 года:
«Вы выразили желание в одном из Ваших писем, чтобы я прислал интернациональный рассказ, взявши сюжетом что-нибудь из местной жизни. Такой рассказ я могу написать только в России, по воспоминаниям. Я умею писать только по воспоминаниям, и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично».
Дубулты, 1971 год.Стоим на балконе с Сашей Вампиловым, смотрим на седое викинговское море, окутанное сизой дымкой, на желтеющие отмели, на чаек, которые, картинно взмахивая крыльями, вылетают из прибрежного леска, где кирха и где когда-то крестился мой отец, направляя свой стремительный полет к нашему балкону.
Кружат над балконом, как над ютом океанского лайнера, идущего в океане.
— Да, это драматургия, — повторяет, в задумчивости следя за полетом чаек, Саша Вампилов. — А что же с братом? С его стремлением умереть за веру?
— А он умер в сорок втором, в Ленинграде, и прах его погребен в траншеях, как и сотен тысяч других ленинградцев, и всем им поставлен общий памятник на Пискаревке…
Стук в дверь.
Молодой флотский офицер.
Я его ждал — и явился секунда в секунду. Войдя, показал на часы, сказал, приложив ладонь другой руки к щеголеватой фуражке:
— Точен до безобразия.
Очень понравилось это выражение, и я мысленно его «засек».
Длинная литовская фамилия. Позже узнал: этот, без какого-либо намека на акцент, говорящий по-русски безукоризненно, молодой человек до тринадцати лет по-русски вообще не умел говорить. Учился в Клайпеде. Мать бывала дома редко — капитан дальнего плавания. Брат — тоже моряк, но торговый.
Всматриваюсь в гостя — к традиционной, знакомой мне с давних времен флотской щеголеватости, к стати, выпестованной годами службы на корабле, добавилось нечто новое — и в манере и, в речи, — нечто неуловимо современное.
На кого похож?
Нет, не вспомнить.
Потом, в следующем году, попаду в Заполярье, на Северный флот, на дальние базы, поживу на плавбазе, в квартире у одного из командиров атомных подводных лодок, повстречаюсь с другими подводниками — и непременно припомнится гость с длинной литовской фамилией.
Офицеры флота. Те же, кого знал раньше, но и другие. Семидесятых годов.
Офицер, «точный до безобразия», приехал за мною с военно-морской балтийской базы, где стоит рубка подводной лодки «Л-3», Краснознаменного Балтийского флота.
Та самая, «Л-3», — в сорок втором году ходила в поход к берегам Швеции топить фашистские транспорты.
Тогдашний ее командир, капитан первого ранга Петр Денисович Грищенко, подарил мне свою книжку, где описан этот «поход смертников» и сами смертники, оставшиеся, однако, благодаря мастерству и воинскому таланту Грищенко в живых.
Сейчас «Л-3» — мемориал, которому, проходя мимо, отдают честь матросы и офицеры семидесятых годов.
Заметка в «Известиях» — от 8 августа 1973 года:
Читать дальше