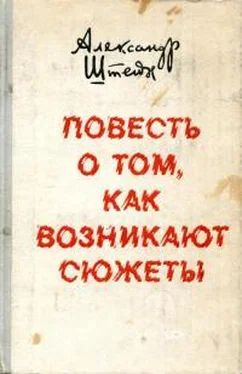Тут же, в парке, скрытый искусственным кинематографическим туманом, нетерпеливо дожидаясь своей очереди войти в кадр, ходил взад-вперед напористой своей походкой, чуть выдвинув плечо, в матросском бушлате, нервно поглаживая темные матросские усики, другой участник будущей драмы на эсминце «Гавриил», вновь назначенный на корабль комиссар Вихорев.
Борис Ливанов.
Его порывистые, почти лихорадочные движения контрастировали, резко, с медлительной манерой Вивьена, и этот контрапункт дополнительно отчерчивал грани двух характеров.
Вивьен играл человека суховатого, ограниченного, царского служаку, преданного, однако, идее русской государственности. В новом, послеоктябрьском Кронштадте ему было не по себе, но он терпел и не покинул сумрачный остров — по примеру иных своих сверстников и однокашников…
Ливанов же был весь — революция, ее молодость, ее все ломающая сила, ее убежденность и ее одержимость.
«Балтийцы» были закончены съемками лет за пять до войны. Перед тем как сдать фильм Ленинграду, Минску и Москве, группа поехала в Кронштадт показать картину на кораблях тем, кто помогал ее снимать. Была и подспудная мысль — заручиться поддержкой моряков, на случай, ежели возникнут трудности при сдаче.
На кораблях фильм понравился, хуже было на берегу. В штабных учреждениях цеплялись за мнимые и действительные мелкие огрехи, к художественной ценности картины отношения не имевшие. Например, почему так валит дым из труб? Может быть, эффектно, с операторской точки зрения, но с точки зрения экономии горючего — никуда.
Дым из труб действительно валил из всех сил, закрывая длиннейшим черным шлейфом горизонт. По жизни, на самом деле, не положено было миноносцам так чернить горизонт, но зато как же гордился оператор именно этим кадром, в который он вложил бездну труда и умения! Мне, ничего не смыслившему в экономии горючего на кораблях, кадр с идущими в кильватерной колонне миноносцами, густившими небо дымами, тоже показался чуть ли не самым изумительным в фильме, и, когда именно на него обрушились на берегу, я вспомнил строчки Николая Тихонова, которые мы, студенты Института живого слова в Ленинграде, с упоением повторяли в 1923 году:
Шарлотта, неразумное дитя,
И след ее с картины мною изгнан,
Но как хорош блеск кисти до локтя,
Темно-вишневой густотой обрызган…
— Дым — убрать! — директивно заключил один из товарищей, не улыбнувшийся ни разу за все время демонстрации фильма, даже когда шли забавные эпизоды, — я сидел с ним рядом и все время наблюдал за его угрюмым выражением лица…
Но добро бы — только дым!
Нашлось множество других деталей, каковые тоже требовали убрать, и если бы согласиться с этими мнениями, всю картину быстро можно было бы разобрать «по кирпичикам».
Сцена в судовом комитете, где поначалу, до прихода на корабль Вихорева, матросы выражают Ростовцеву полное недоверие, вызвала бурные споры. У одних — сомнения, у других попросту — негодование. Даже такая «мелочь», когда председатель судового комитета, наводя порядок, за неимением звонка стучит по столу воблой. «Нетипично».
А то еще другой матрос, татуированный весь, роба мятая, голос хрипатый, молотит по столу кулачищем. «Довольно! — надсадно хрипит он. — Триста лет терпели!»
Анархия!
И правильно — анархия.
Командир корабля Ростовцев предъявляет судовому комитету список людей, взятых на корабль без его, командира, ведома. Предсудкома пускает список по рукам, и матросы рвут список на цигарки — черт знает что!
И ничего не скажешь — черт знает что!
Атмосфера сгущалась — не только в кадре, но и на обсуждении картины. Уже мелькнули словечки, не слишком приятные уху во все времена, а в те — что уж говорить! «Тут как в кривом зеркале». «Рисуете в извращенном свете». «Да уж, красочки!» «И где вы его взяли, такой судовой комитет?»
Где? Сам Зеновин, один из авторов сценария, был членом одного из таких судовых комитетов, и сам бил воблой по столу, и сам рвал командирский список на цигарки.
Справедливости ради скажу, что не все обсуждавшие были готовы навесить на нас ярлычки, были и противники таких суждений, но, что поделаешь, и их понемногу начали тревожить эти словечки, имевшие в ту пору почти магнетическую силу.
Слово взял молчавший до поры офицер — моложавый, хотя и немолодой, с прядкой иссиня-черных волос, спускающейся на лоб, с тонкой смугловатой кожей, выдававшей южное происхождение, с острым, очень живым и чуть насмешливым взглядом черных глаз, весь какой-то собранный; сжатый, и пресловутая «военная косточка» сказывалась в каждом его малом и скупом движении, а рабочий скромный китель сидел щеголевато, и так, словно бы привык этот человек носить его с младенческого возраста вместо пеленок.
Читать дальше