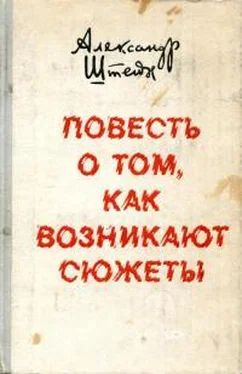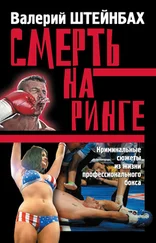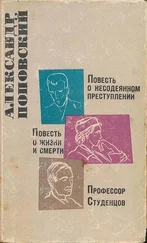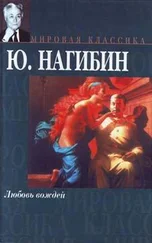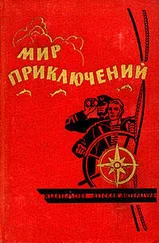Он буквально бредил Свердлиным, буквально дрожал от волнения, рассказывая про сцену «Горький миндаль».
Как известно, цианистый калий пахнет горьким миндалем.
Гуго Нунбах, персонаж германовской пьесы, столь же реальный, сколь и символический.
Германия после первой мировой войны. Черная фашистская ночь приближается…
Одареннейший немецкий архитектор, потерявший работу в послевоенной Германии, а с нею и смысл жизни, да и самого себя, опустился. Жить было не на что, стал торговать в берлинских подворотнях порнографическими открытками — не все ли равно…
Бывший «первый солдат» из «Земли дыбом» — Гуго Нунбах.
Горький миндаль. Эпизод, где Нунбах, отчаявшийся, изверившийся, решает расстаться с жизнью. Сейчас он примет яд.
Много лет спустя Юрий Герман опишет в своих воспоминаниях о Мейерхольде, почему не выходил этот эпизод и почему на репетиции станет ясно, что Свердлину нечего играть.
И тогда — «начался Мейерхольд».
Он заново поставил сцену.
Рабочие выкатили рояль.
Три свечи горели на маленьком столике возле кресла, и две свечи вставили в подсвечники на рояле. А кресло закрыли серебряной парчой.
«Так была создана, — пишет Герман, — простая, лаконичная и чудовищно безжалостная формула смерти.
— Вы можете тут умереть, Лева? — спросил Мейерхольд со сцены в темноту зала.
— Да! — сдавленным голосом крикнул Свердлин. — Да, спасибо, Всеволод Эмильевич.
— Начали! — приказал Мейерхольд.
Кельберг — Мичурин сел за рояль. Звуки «Лунной сонаты» поплыли со сцены. Лев Наумович Свердлин пошел к сверкающему парчой креслу.
— Это гроб, Лева, — предостерегающе крикнул Мейерхольд».
Рождалась одна из самых знаменитых сцен мирового театра — самоубийство Гуго Нунбаха.
Свердлин во «Вступлении» вызвал сенсацию. О нем писали искусствоведы у нас и за рубежом. И хоть в центре пьесы была судьба профессора Кельберга — на первое место выступила игра бывшего «первого солдата» из «Земли дыбом»…
В вечер нашего знакомства у Охлопковых я увидел детское восхищение, почти восторг, с каким бывший «второй солдат» следил за выражением будто бы неподвижного лица «первого солдата», — Лев Наумович показывал сцену, в которой некий деятель из Японии изъясняется долго и пространно, а потом переводчик говорит: «Господин N сказал: «Спасибо». И все.
Это было действительно невероятно смешно, и в охлопковском кабинете стоял безудержный хохот.
Но в глазах Охлопкова я прочел еще и — восхищение искусством.
Охлопков восхищался актерским искусством Свердлина, как Свердлин — режиссерским Охлопкова.
Не только режиссерским.
Не раз был я свидетелем тому, как Охлопков на репетициях молодо взбегал на сцену, становился подле Свердлина, преображался — и показывал.
Это всегда было неожиданно. Всегда искрилось, всегда поражало.
И однажды, после такого очередного показа-праздника, на глазах Свердлина выступили слезы. Ничего не сказав, в полной безнадежности махнув рукой, ушел за кулисы.
— Левушка, где ты? Левушка! — обеспокоенно кричал Охлопков, но Свердлин не возвращался. — Левушка, продолжаем! — взывал Охлопков.
Свердлина не было.
Свердлин обиделся. И тихонько всхлипывал за кулисами.
Никто не понимал, в чем дело. Охлопков показывал, будучи со Свердлиным ласков необыкновенно. Ни одной нотки раздражения. Напротив. Но как раз эта необыкновенная ласковость особенно больно обидела Свердлина. Он почувствовал в ней снисходительность к нему, Свердлину, он обозлился на самого себя, поняв, что при всем своем крупном актерском даровании, в котором, надо сказать, справедливо не сомневался, повторить то, что показал Охлопков, — не в состоянии.
Охлопкова повторять действительно было немыслимо. Он показывал так блистательно, что это сам по себе уже был — Театр.
Свердлину больно было стать дурным копиистом.
Оскорбился.
Но не один он.
Ушел, оскорбившись, из зрительного зала, демонстративно потушив лампочку на режиссерском пульте, и сам Охлопков.
Кажется, оба потом глотали валерьянку, оба сосали валидол, их долго мирили, увещевали, жены приняли на себя роль врачей — они всегда в зале, на безотлучной, неусыпной вахте, если репетировал Свердлин и режиссировал Охлопков.
Мирили Охлопкова со Свердлиным, как раскапризничавшихся детей, каковые и сами не рады, что раскапризничались, однако остановиться сами уже не могут.
Тут уж необходим был некий, как говорится, «внешний фактор».
Читать дальше