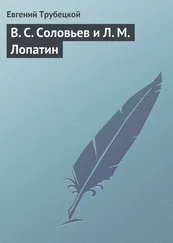Милая моя и дорогая, ведь от нас с тобой зависит быть светлыми, радостными и счастливыми все время. Зачем же мы этой светлой и постоянной радостью будем жертвовать для радости минутной, которая оставляет по себе такой долгий и такой невыносимо мучительный след в нас самих и разбивает, прямо разбивает другие души!
Ах, Маргося, Маргося моя милая, будь ты всегда моя любимая, обожаемая, светлая и радостная. Будь светла и бодра и не на свои силы надейся, а на помощь свыше, которая не обманывает.
Крепко, крепко и нежно тебя целую.
109. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой
[27 июля 1911 г. Бегичево. В Михайловское.]
Милый мой ангел дорогой
Не писал тебе эти дни, потому что слишком много разного во мне бродило и бродит. Хотелось мне, чтобы утряслось все в душе моей… Сейчас пришло твое письмо, за которое несказанно тебе благодарен. Дорогая и милая, спешу тебе сказать, что верю и надеюсь на окончательную победу; верю, что силы найдутся в самой нашей любви друг к другу. Ты у меня в этот приезд часто просила прощения; как-то странно звучали эти слова у меня в ушах, так как винил я одного себя, потому что знаю, что все в конце концов от меня зависит, и уверен, что во всем хорошем ты мне поможешь. Не совладел я на этот раз с волной восторга, которая меня унесла. Не совладел с чудным вечером, с одуряющим запахом сена, с невероятной красотою природы, а всего больше — с твоим очарованием! Ну что же, отчаиваться нечего, будем бодры и тверды, не будем падать духом и предаваться “ужасу”, а лучше будем бороться против него. И Бог даст сил. На этот раз тяжелым был только самый день возвращения, — молчание и чувство накопившейся тяжести. Но ведь все-таки тем не менее и со стороны видно, что мы оба боремся, ты и я, и все-таки не отдаемся увлекающему нас потоку, как бы он ни был соблазнителен. И это в конце концов облегчает душу! Ах, дай Бог окончательно освободить и твою и мою душу от тяжести. Верю и надеюсь, что это будет.
По возвращении на другой же день бодро принялся за работу и двигаю ее вперед. Много положил на бумагу из того, что было переговорено, пережито и перечувствовано с тобой, моя милая. Это всякий раз в моей работе большая, очень большая для меня радость и утешение, потому что я нежно и крепко, крепко тебя люблю.
Здоровье мое по всем статьям хорошо. Переписное заведение — Мироновой (угол Воздвиженки, возле церкви Бориса и Глеба).
Радость моя, милая, хорошая и ласковая, не унывай, будь бодра.
Крепко и нежно тебя целую.
110. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой
[13 августа 1911 г. Бегичево. В Москву.]
Милая, дорогая и бесценная Гармося, красота моя и радость.
Вот я здоров теперь и бодр. Работа идет, актовая речь наклевывается, и солнце вливает бодрость в душу. Часто за это время нападало уныние и тоска — двоякая тоска: одна по тебе, моя милая и родная. То подступает какая-то волна, целая буря, которая поднимает меня и несет, как щепку:
это — чувство к тебе. То снова мучительно чувствую всю невозможность осуществления этого чувства, всю необходимость сдержать его ради Бога, и тогда нападает тоска по тебе и тоска обо мне самом, мучит сознание греха. Мучит сделанное ей зло, выражение подстреленной птицы, которое так всегда гнетет душу. Ничего нового и острого тут нет и ничего нового не произошло: в общем у нас лучше. Все это — старое, постоянное, хроническое, но и мучительное.
Освобождается от этой тоски и бури моя душа, когда чувствует подъем в работе, когда наклевываются мысли и образы, а еще больше, когда получается какое-нибудь хорошее письмо от тебя, такое, которое заставляет подняться на победу всего хорошего, светлого между нами. Родная моя, как неудержимо, крепко и сильно я тебя люблю!
Уже назначен день моих занятий в универс<���итете> Шанявского — по Пятницам [201]. Это великолепно по близости к Четвергам и Субботам. Возражения твои основаны на недоразумении. Раз Соловьев видел в половой любви путь выше ангельского и универсальный путь спасения, он, очевидно, ее переоценил. Но ведь я же и говорю, что возвести относительное в абсолютное значит — растворить его в абсолютном и разрушить; именно переоценка и разрушительна в данном случае: именно потому, что любовь для С<���оловьева> — “выше ангельского пути”, он принужден был отбросить от нее все естественное: оттого и ложный “стыд”. В сущности, во всей этой теории говорит неудовлетворенное земное желанье, которое Соловьев бессознательно разжигал, принимал его за небесное откровение. Как же не сказать, что истину здесь заменяет земная величина?
Читать дальше
![Евгений Трубецкой Наша любовь нужна России [Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой] обложка книги](/books/404604/evgenij-trubeckoj-nasha-lyubov-nuzhna-rossii-perepi-cover.webp)