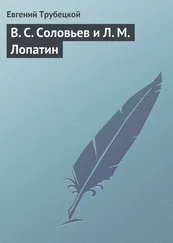А по поводу твоих двух последних писем, дорогая моя, скажу вот что. Завтра начинаю говеть и прошу у тебя от души прощения. Всю неделю до Субботы буду молиться, чтобы все между нами было хорошо, чтобы Бог дал сил нам обоим на хорошую, святую и чистую дружбу и чтобы никакая неправда не вторгалась в наши отношения и не нарушала мир наших душ. Родная моя, вот если бы ты могла поговеть и с той же мыслью. Такие ответственные минуты приближаются для нас с тобой — и страшные, оттого что слишком радостные. Дочитывай и ты мои письма и пойми, что ведь не видел бы я опасности, если бы с моей стороны было равнодушие. Не холода я боюсь, а чрезмерной горячности моих собственных чувств.
А бояться есть чего. И ты и я чувствуем, что неправда, обман в будущем недопустимы. Стало быть, между нами должна быть такая истина, которая бы не убивала . Нужно сделать сверхчеловеческие усилия, чтобы это было так. Все мое значение и дело в жизни от этого зависит. Но, впрочем, нужно ли это тебе говорить? Дорогая моя, ты сама все это знаешь не хуже меня. — Но вместе с тем не могу и не говорить тебе этого, потому что сейчас вся душа моя этим полна. Помни, что вся наша задача теперь, предстоящая обоим, — принять крест (чего иудеи не захотели) [170]. И через крест мы с тобой не удалимся, а будем много, много ближе. Сколько раз на опыте я убеждался, как общее лишение и общая жертва нас с тобой сближает, милый мой, дорогой ангел и друг. Не потому пишу все это, чтобы сомневаться в серьезности твоих намерений, а потому, что хочу и сам в этих намерениях укрепиться и тебе помочь.
Крепко, крепко тебя целую. Пожалуйста, извести задолго о твоем отъезде. Очень боюсь, как бы все твои дети не переболели корью. Тут заразительность — огромная, даже непреодолимая.
Еще раз крепко целую.
88. М. К. Морозова— Е. Н. Трубецкому
[4 марта 1911 г. Москва. В Неаполь.]
4-е марта
Милый Женичка! Посылаю тебе по просьбе Сергея Ивановича экземпляр воззвания, написанного Сергеем Андреевичем. Пока оно конфиденциально роздано по рукам и собираются подписи [171]. Мы с Серг<���еем> Иван<���овичем> [172]очень пожалели, что не ты это писал, т. к; написано слабо, по-моему, недостаточно для массы, на которую рассчитывают. Дай Бог, чтобы что-нибудь вышло — это было бы внушительно. Сейчас получены твои корректуры — я еще не прочла, но видела, что ты кое-что исправил. У нас в издательстве все хорошо. Булгаковым и Бердяев<���ым> я очень довольна — мы с ними все больше сходимся. Часто много и горячо говорим. Они относятся к делу очень горячо — заходят постоянно. Меня волнует вопрос о сборнике. Ты понимаешь, что мы, издавая ряд сборников, хотим этим выразить нашу боевую линию. Мы задумали поэтому написать предисловие к Солов<���ьевскому> сборнику, как первому, и обозначить этим предисловием вехи, по которым будем идти, вроде программы. Писать будет Булгаков. Т. к. меня соблазняет боевая позиция и увлекает мысль вести борьбу, то я сочувствую этому, но боюсь . Поэтому я сказала, что без твоего прочтения и согласия я нахожу неловким выступать с этой программой. Тебе будет прислано предисловие скоро. Ты напиши, как ты находишь данное предисловие, прокорректируй его и скажи, вообще согласен ли ты, что предисловие нужно. Ради Бога сделай это и обдумай. Эрн вообще пугает меня своей узостью — он отпугивает всех. Теперь, когда спор двух течений так остер, опасно отпугивать узким догматизмом. Ввиду этого хорошо ли предисловие? А с другой стороны, не определять своего облика, не ставя никогда ребром, — как-то безжизненно. Разреши мои сомнения — я тебе верю. Я тебе не сообщала о двух докладах Яковенко [173] и Степуна [174]. На обоих очень остро вспыхивали столкновения между христианами и неокантианцами или как их назвать. Видно, что спор разгорается по всякому поводу и встают ребром все вопросы по существу. Степун был разбит в пух и прах! Он не бездарен, но поразительно безвкусен и легкомыслен. Яковенко, по-моему, единственный, к которому стоит присмотреться. Несмотря на оболочку меонизма, его конечный идеал как будто религиозен, хотя пока еще бессодержателен. Я забыла тебе сообщить, что у меня явился новый знакомый, Кривошеин, знаешь, министр земледелия. Я его избегала, особенно ввиду университетск<���ой> истории, противно видеть представителей власти. Но он очень энергично мне звонил, писал и приезжал. Меня это особенно заинтересовало потому, что он меня явно интервьюирует . Знает обо всех наших собраниях, кружках, изданиях и, видимо, очень хочет проникнуть во все. Меня поражает, насколько наивные и ложные у них там взгляды на все — это поразительно. Мы с ним воевали два часа насчет университета [175]. — Вот, кажется, все, что я имею сказать более внешнее. Еще хочется сказать, что я чувствую, что ты мной чем-то недоволен и думаешь, что я тебя не понимаю. Вообще ты ужасно там увлекся своей борьбой! Милый друг, так мне тяжело, так безотрадно жить, а жить так хочется! Ну зачем ты так все ненужно портишь, так не ценишь! Право, я не претендую составлять для тебя все — я сама хочу жить не только личным! Зачем же нам так омрачать и так тяжелую жизнь! Хоть одну минуту отвлекись от своей задачи и войди в мою душу и положенье и не будь так сух и суров, не разбивай всего! Будь более доверчив — вспомни, что не одни ужасы ты со мной переживал, а много радости! Почему же ты хочешь губить эту радость, что ты этим достигнешь и к чему?
Читать дальше
![Евгений Трубецкой Наша любовь нужна России [Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой] обложка книги](/books/404604/evgenij-trubeckoj-nasha-lyubov-nuzhna-rossii-perepi-cover.webp)