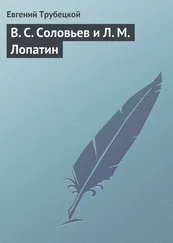Вот если мы с тобой согласимся относительно основного, — все станет проще и легче, между прочим и вопрос о нашем ближайшем свидании весною. Если правительство не уволит нас немедленно, а будет требовать окончания принятых на себя обязательств, то, чтобы избежать напрасных обвинений и быть во всем правым, может быть, и лучше проэкзаменовать студентов весною. Если же я буду уволен раньше, то все-таки приезд в Москву необходим по другим причинам.
Если до тех пор мы согласимся с тобой на какое-нибудь решение, то свидание наше будет несравненно менее нервным, более радостным и менее опасным. Ужасно опасны именно те свидания, от которых зависит решение судьбы. Нельзя, чтобы в таком важном деле мешали нервы. Скажу больше: решение должно быть продиктовано не чувством, а совестью: только тогда оно нас обоих удовлетворит и прочно успокоит. Поэтому оно должно быть принято раньше свидания.
По поводу моего дела будь совершенно спокойна. Сейчас, т. е. в данную минуту, когда у меня зарождаются страшно важные лереживанья и мысли, я властно слышу призыв, выраженный Пушкиным:
“Твори, но в тишине, но в тайне,
Не смея помышлять еще о славе”» [160].
Мыслям, как и доброму вину, нужна выдержка. Я чувствую, напр<���имер>, теперь, что мое первое выступление о Соловьеве (в польской библиотеке) было не полезно, а вредно, ибо оно было преждевременно; мысль, не вполне созревшая, осталась непонятою и не вылилась в настоящую захватывающую форму. Теперь чувствую, что почти все написанное должно быть совершенно переработано, чтобы получилась не книга, а живое дело, и знаю, как это сделать.
Но для этого необходима тишина, некоторое отшельничество и сосредоточенность. Без этого творчества нет! Выступать и действовать необходимо, но для этого нужно иметь готовое, с чем выступить. Все прекрасное до рождения вынашивается, вымалчивается, таится во чреве и только потом рождается на Божий свет.
Сказать, что это значит “замкнуться в кабинете”, — значит ничего не сказать. Скажи, пожалуйста, нужно было Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Толстому “замкнуться в кабинете”, чтобы произвести “Онегина”, “Мертвые души”, “Войну и мир”; заслуживает ли осужденья Иванов за то, что всю жизнь прожил в своей мастерской с одной картиной.
Ведь у меня в душе зарождается то же произведение искусства. Если оно родится раньше времени, будет недоносок; а торопить выступать с не готовым — вредно. А главное мое дело — все-таки в этом выстраданном произведении. Сегодня отослал мою 15 главу и жду с трепетом, как ты ее почувствуешь и переживешь; точно от этого все наше с тобою будущее зависит! Верю, что еще будем работать и переживать вместе!
А относительно дела и деятельности не бойся. Живого дела никакие внешние стеснения и запреты не погубят. Кто нам сказал, что именно с этого момента, с этой отставки не начнется настоящая моя просветительная, а может быть, и академическая деятельность! Возможно, что и так, если только правительство не запретит нам всякое преподавание. Но если оно это и сделает, влияние наше сильно возрастет.
Целую тебя крепко.
Р. S. Сейчас получил твою телеграмму о сборнике Соловьева. Все изменения вполне можно сделать в корректуре: вели прислать. Но как быть со статьями самого Соловьева! Их я могу перевести только в Москве, имея под руками летопись [одно слово нрзб]. А Рачинского нет! Ровно через две недели едем в Неаполь и оттуда, вероятно, в Capri.
85. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому
[Около 15 февраля 1911 г. Москва. В Рим.]
Радость моя, сокровище мое Женичка! Наконец-то я вздохнула немного, наконец-то некоторое спокойствие вошло в мое сердце! Я увидала хотя некоторый просвет. Сегодня утром получила твое письмо, где ты пишешь, что Вы будете жить зиму в Бегичеве и что ты можешь работать в Университете Шанявского. Господи, Господи, благодарю тебя! Свет, сила, Бог не уйдет из моей жизни. Бог не покинет меня. Никто бы не допустил и ты сам меньше всего, чтобы В. А. тебя не видала, ее жизнь была бы разломана, полное одиночество во мраке и безнадежности. За что же меня подвергать тому же? Я ничего не прошу теперь, никаких ультиматумов не ставлю, никогда не сомневаюсь, что ты должен любить В. А. и детей и жить с ними. За что же меня бросать одну, без поддержки, без возможности поговорить с тобой, поплакать с тобой, порадоваться на тебя! Это жестокость, которая невероятна! Прости меня, мое сокровище и моя радость. Прости за мое отчаяние. Поверь одному, что оно было действительно безумно, изломало меня вдребезги! Я все это время и хворала и рыдала по целым дням. Не думай, что я боюсь борьбы, что я ослабну, что я не буду радостно идти вперед, быть лучше! Не сомневайся во всем этом. Я думаю и надеюсь, что эти два месяца громадной и трудной и глубокой работы тебе видны, ты их признаешь и они тебе могут дать веру и спокойствие за мою жизнь вообще. Но это все так, только если я знаю, что тебя увижу, что ты здесь, наше дело общее. Пусть мы будем видеться реже, но это ничего, если этой ценой будет хотя какое-нибудь спокойствие у В. А. и у тебя. Тогда и мне будет лучше. Но отдать всю мою жизнь я не могу, так же как и В. А. не может. Каждый хочет сохранить и верить в незыблемость своей почвы. Дорогой, бесценный, любимый мой, ах как я тебя безгранично люблю, как я тебя обожаю. Всю душу хочется отдать на общее дело с тобой, Чтобы вместе с тобой работать, чтобы ты весь, милый и прекрасный, проходил тут везде реальный, живой. Не могу я не считать смертью для себя, чтобы ты был далеко и по письмам мы общались друг с другом. Это возможно временно, я все вынесу, но мне нужно верить и знать, что ты будешь жить тут близко, ты живой! Разве может моя “еврейская” природа [161] жить иначе, а не умереть тогда, если солнце мое ушло! Нет, нет, нет, никогда, нельзя! Прости мое вчерашнее письмо, я была сумасшедшая. Пойми и прости. Сейчас я буду уже поправляться. После этого известия я сегодня первый день вышла к завтраку, волосы могли лечь в прическу и вид не с того света. Господи, мне только надо твердо знать, что ты никуда не уйдешь, а вернешься сюда. Я тоже тебе скажу, не торопи меня, дай мне собраться с силами, не бросай меня, не губи меня! Неужели нельзя в меня поверить, что я приду к хорошему так, как ты захочешь, но не одна — этого я не могу. Ты не можешь себе представить, как хорошо, что ты решил насчет Бегичева. Для твоей работы — это чудно. Я радуюсь всей душой! Насчет семинария я уже думала то же самое! Я тоже буду работать вовсю. Буду заниматься философией, собрания устраивать. Издательство и школа задают большие задачи. Еще об этом напишу после. Уверяю тебя, что и в религиозном отношении я очень углубляюсь и развиваюсь! Уверяю тебя! Может быть, во всем шагну вперед! Силы будут и у тебя и у меня! Родной мой, светлый мой, никогда никого не любила кроме тебя, и никто для меня на свете не может существовать кроме тебя, радость моя. Как ты смел воображать даже возможность какого-то господина! Да я тебя если и люблю, то сейчас люблю еще в тысячу раз больше. Уезжаем мы в конце первой недели [162], 26 го, 27 го или 1- го марта. Пиши Берлин Hotel Continental и Bordighera (кажется, так пишется) Hotel Royal. В Рим я не поеду, будь покоен, мое сокровище! Будь спокоен, будь здоров. Христос с тобой, моя радость. Целую крепко.
Читать дальше
![Евгений Трубецкой Наша любовь нужна России [Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой] обложка книги](/books/404604/evgenij-trubeckoj-nasha-lyubov-nuzhna-rossii-perepi-cover.webp)