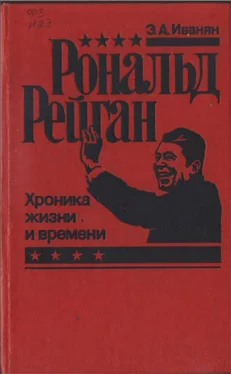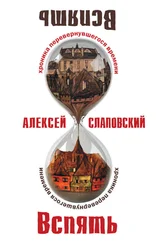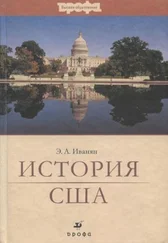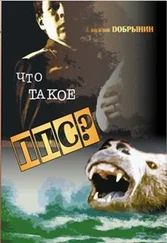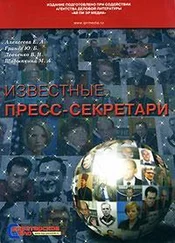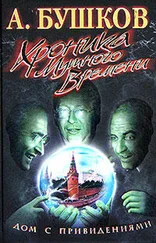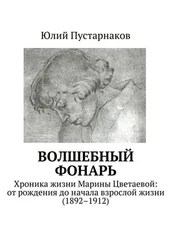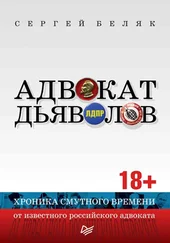Можно было бы вспомнить в этой связи лишь об одном эпизоде, связанном с политической обстановкой в Калифорнии в те годы. В 1934 г. в ходе предвыборной борьбы за пост губернатора штата выявилась популярность кандидата демократической партии, известного американского писателя Эптона Синклера, выступившего с широковещательной программой своей деятельности в случае избрания. Программа эта была названа броско и решительно — "Положить конец бедности в штате Калифорния" и очень перепугала калифорнийских богачей, в частности, тем, что содержала пункт о значительном повышении налогов на их доходы. К группе богатейших людей штата принадлежали, естественно, и все без исключения владельцы крупнейших голливудских киностудий, решившие использовать все находившиеся в их распоряжении средства, дабы не допустить Эптона Синклера в губернаторский особняк. Киностудия "Метро-Голдвин-Мейер" в срочном порядке выпустила на экраны страны короткометражные сюжеты якобы документальной кинохроники, содержавшие "интервью с рядовыми избирателями штата". В одном из таких сюжетов интервьюируемая пожилая женщина заявляла, что будет голосовать за соперника Синклера из республиканской партии, так как хочет "спасти свой маленький домик"; некий бородач из другого сюжета, говоривший с легко распознаваемым "русским" акцентом, решительно заявлял, что будет голосовать за Синклера, поскольку-де предлагаемая тем программа действий "хорошо работает в России, и почему бы ей не сработать и у нас". Кинохроника, подготовленная студией "Метро-Голдвин-Мейер", предлагалась кинотеатрам по всей стране бесплатно. Сотрудникам этой же студии, получавшим более 100 долларов в неделю, было настойчиво "рекомендовано" внести сумму заработной платы за один рабочий день в казну кандидата республиканской партии, причем хозяева студий давали ясно понять, что лиц, несогласных с этой "рекомендацией", могут ожидать серьезные неприятности. Эптон Синклер потерпел поражение.
Об атмосфере, царившей в Голливуде в начале 30-х годов, убедительно свидетельствуют воспоминания Чарлза Чаплина о пребывании в 1930–1931 гг. в Голливуде выдающегося советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна, а также собственные воспоминания С. Эйзенштейна. "Эйзенштейн должен был снимать фильм для фирмы "Парамаунт", — писал Чаплин. — Он приехал, овеянный славой "Потемкина" и "Десяти дней, которые потрясли мир" (так в США был назван фильм С. Эйзенштейна "Октябрь". — Э. И.). "Парамаунт" пригласил Эйзенштейна поставить фильм по его собственному сценарию. Эйзенштейн написал превосходный сценарий — "Золото Зуттера" на основе очень интересного документального материала о первых днях калифорнийской "золотой лихорадки". В сценарии не было никакой пропаганды, но то обстоятельство, что Эйзенштейн приехал из Советской России, вдруг напугало "Парамаунт", и фирма в конце концов отказалась от своей затеи" 1. А вот что писал сам Эйзенштейн: "В Америке и в Европе неожиданностью удара прозвучало появление наших картин, где визуально во всей широте были поставлены социальные вопросы перед аудиториями, которые с экранов никогда об этом не слыхивали, никогда этого не видывали… И фильмы наши, иногда на много лет опережая официальные дипломатические признания нашей страны, победоносно вламывались в капиталистические страны вопреки цензурным запретам и своим искусством вербовали в друзья даже тех, кто не всегда сразу мог понять величие наших идеалов" 2. Конечно, нельзя отрицать (даже делая весьма существенную скидку на характерный для тех лет восторженный оптимизм устных и письменных заявлений советских людей и несколько гиперболизированное представление о разрушительных для капиталистической системы возможностях социалистической идеологии), что у капиталистической Америки были известные основания страшиться растущего влияния идей социализма на американское общество. Но вместе с тем нельзя было не обратить внимание и на то, насколько велики были глаза у страха: уже в 30-х годах показателем влияния "красных" на общественную жизнь США считалась даже частота и настойчивость требований трудящихся страны о повышении заработной платы, а директор ФБР Эдгар Гувер вообще был убежден, что у истоков рузвельтовского "нового курса" стояли коммунисты.
*
Все воспоминания Рейгана о том периоде его жизни прошли через "красильную мастерскую" его собственной политической карьеры и через "цех ретушировки" профессионалов политической рекламы, активно приложивших свою руку не только к "автобиографии" Рейгана, но и ко всему тому, что он говорил и писал о своей жизни в Голливуде в последующие годы. Поэтому не удивительно, что в результате всех этих подчисток что-то в его воспоминаниях звучит более правдоподобно, что-то менее правдоподобно, а кое-что и вовсе не соответствует действительности. Из той части воспоминаний, которая завершается концом второй мировой войны и возвращением Рейгана в Голливуд (сколь ни натянуто звучит слово "возвращение"), перед читателями и слушателями 70—80-х годов предстает образ политически наивного (вполне вероятно, поскольку политическому опыту тогда еще неоткуда было взяться) молодого человека, убежденного сторонника рузвельтовских социально-экономических реформ и политического курса администрации демократов (тоже вполне естественно, поскольку все, кто не принадлежал к имущим слоям населения и кто в первую очередь пострадал от экономического кризиса 1929–1933 гг., связывали именно с этой администрацией и провозглашенным ею "новым курсом" все свои надежды на будущее), "почти безнадежного либерала с сердцем, истекающим кровью по любому поводу" (вот чего не было, того не было; наговаривает он на себя. Да и откуда было взяться либеральным взглядам вкупе с "истекающим кровью сердцем" у человека, выросшего и воспитанного в американской провинциальной глубинке, всегда отличавшейся консервативными, индивидуалистическими воззрениями. Такая самохарактеристика понадобилась Рейгану, по всей видимости, для того, чтобы иметь возможность подчеркнуть в 1965 г. радикальность происшедших в его взглядах перемен после того, как с его глаз спали-де либеральные шоры 30-х годов). Вместе с тем можно поверить, что, когда Рейган демобилизовался (в сентябре 1945 г.), он еще не был воинственным антикоммунистом, но не столько по причине своей политической наивности, как он пытался объяснить в автобиографии, сколько потому, что просто не успел им стать за те несколько лет, в течение которых он делал карьеру в кино до мобилизации, а в годы второй мировой войны потому, что антикоммунизм был тогда не популярен в США и американцы в подавляющем большинстве своем все еще видели в Советском Союзе союзника в борьбе с гитлеровским фашизмом.
Читать дальше