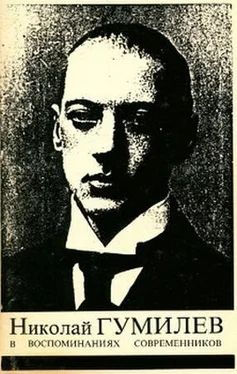В этом — все, отсюда произрастают все параллели между Блоком и Гумилевым. Первый был влюблен в поэзию и, в сущности, равнодушен к стихам. Второй — наоборот. Мы не знаем, что происходит в мире тайных сил, в сфере неведомых событий. Может быть, та самая коса, которая скосила Блока, рукояткой своей ударила насмерть Гумилева: может быть, смертный час Блока круглый, белый, как биллиардный шар, страшный и странный своей совершенной законченностью, гладким своим безличием — этот шаровидный час — этот смертельный шар, убив Блока, рикошетом убил Гумилева.
И оба знали, оба предсказали, как умрут.
Блок предсказал, что умрет у себя в постели:
«…просто в час тоски беззвездной,
В каких-то четырех стенах,
С необходимостью железной
Усну на белых простынях».
И предвидел свои похороны:
«Божья Матерь «Утоли мои печали»
Перед гробом шла, светла, тиха.
А за гробом в траурной вуали
Шла невеста, провожая жениха»…
— «Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец…»
Шла за гробом Блока — жена его, шла мать. Но и невеста шла — Пречистая София-Мудрость. И если для встречных, для прохожих, «был он только литератор модный», то для нее, для Софии, это был жених. Прекрасный жених. Светлый рыцарь.
«И навстречу кланялись, крестили
Многодумный, многотрудный лоб.
А друзья и близкие пылили
На икону, на нее, на гроб»…
— «И венок случайный за венком»…
Смерть в постели. Гроб. Венки. Но прислушайтесь к другим словам, к этим уверенным, поступательным, мужественным анапестам, с перебивающимся от ликующего волнения ритмом:
«И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,
Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут — вставай…»
Не было не только «врача и нотариуса», не было близких, родных… В последний, единственный час жизни — никого близкого. Вздрогнул ли он, зарыдал ли? Может быть, молча молился, вспоминая вещие свои слова:
«Я носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть»…
Вспоминается мне его голос — густой, какой-то тягучий и хмельной, прыгающий от низких баритональных нот к высоким, почти пискливым. Размерно, точно скандируя, он говорил «с чувством, толком, расстановкой»: «нужно всегда идти по линии наибольшего сопротивления. Это мое правило. {3} Если приучить себя к этому, ничто не будет страшно».
Он и шел по линии наибольшего сопротивления, действуя, где нужно, локтями, наступая на ноги (говорю, конечно, метафорически). И потому имел немало недоброжелателей, почти врагов.
Возвращаюсь к личным воспоминаниям. В 1920–1921 гг. мы встречались с Н. С. многократно в Доме Литераторов, во «Всемирной Литературе». Беседовали обычно на литературные темы, о новых книгах, о критике. Однажды у нас завязался длинный разговор о Розанове, из которого выяснилось, что Н. С. не ценит, не любит и, по-моему, не понимает этого писателя. Но некоторые суждения Гумилева казались мне верными и меткими. Так об одном аккуратнейшем, механическом человеке, проповедующем «иннормизм» и бунтарство, Гумилев сказал: «служил он в каком-то учреждении исправно и старательно, вдруг захотелось ему бунтовать; он посоветовался с Вяч. Ивановым, и тот благословил его на бунт, и вот стал К. А. бунтовать с 10-ти до 4-х, так же размеренно и безупречно, как служил в своей канцелярии. Он думает, что бунтует, а мне зевать хочется».
Гумилев не выносил критиков «семинарского» или «народнического» типа. «Знаете, — говорил он, — еще не так давно было два рода критиков; одни пили водочку, пели «Gaudeamus igitur» и презирали французский язык, другие читали Малларме, Метерлинка, Верлена и ненавидели первых за грязное белье и невежество. Так вот, честные народники — просто навоз, сейчас уже никому не нужный, — а из якобы прогнивших декадентов вышла вся сегодняшняя литература».
Осенью 1920 г. мы встречались с Н. С. в «Доме Отдыха» (б. Чернова) на правом берегу Невы. Тут, наблюдая его в смешанном обществе рабочих, литераторов и «буржуазных» барышень, я удивлялся переменчивости его тона и всего поведения. С рабочими он вовсе не разговаривал, не замечал их (хотя выступал перед ними на эстраде Дома Отдыха со стихами, не имевшими большого успеха). С литературными собратьями он держался холодно, почти высокомерно, разговаривал ледяным тоном, иногда «забывал» здороваться.
Читать дальше