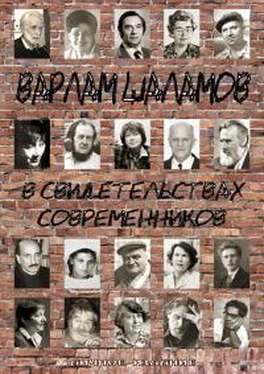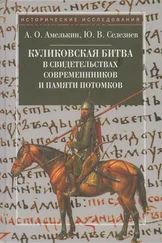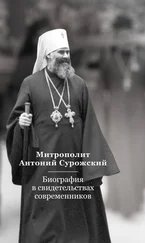С Солженицыным все было гораздо сложнее. Нужно иметь в виду, что Шаламов уже был профессиональным литератором, в 30-е годы прошедший школу у Третьякова и выпустивший книжку своих очерков, а Солженицын был дилетант, сельский учитель математики, который не понимал многих самых элементарных вещей в структуре и языке литературного произведения, но обладал очень большой уверенностью в себе и своем призвании. Я мог бы больше написать об их литературных расхождениях, но частью это есть в опубликованной с недостойным предисловием Солженицина их переписке. Главное в другом – КГБ, конечно, были выгодны расхождения между Солженицыным и Шаламовым, но они были вполне естественными, а не искусственно созданными. После 62 года Шаламову, уже написавшему большую часть гениальных «Колымских рассказов», была обидна всемирная слава «Одного дня Ивана Денисовича», написанного под бесспорным влиянием старомодных тургеневских повестей.[...]
Мы с ним пару раз обсуждали возможность для меня написать критическую статью об «Одном дне Ивана Денисовича», конечно, напечатал бы ее только «Октябрь». Для меня бы это был разрыв с множеством моих знакомых, но меня тогда это скорее веселило, тем более, что речь в этой статье должна была идти о том, что только человек, ничего не понимавший в лагерной жизни, мог сделать положительным героем – бригадира, который был убийцей по самой своей должности – он заставлял работать и умирать на работе, точно понимая, что он делает. Я хотел написать тогда о том, что ложью является сам жанр «одного дня» – жанр тургеневской повести.[...]
А уж коммунистка Евгения Гинзбург со своими издевками по поводу героини Спиридоновой, всю свою жизнь проведшей в царских и советских лагерях, и любительскими стишками в эпиграфах перемешенными со стихами Блока и вовсе была для Шаламова не то, что даже недостойным, скорее непристойным персонажем. Понятно, что для всей советской либеральной среды Гинзбург была (и остается) гораздо более близка, понятна, популярна, чем Шаламов.[...]
Шаламов хотел публикаций, боролся за издание своих рукописей, но великие писатели часто это делают хуже, чем люди более практические. Помню, как он мне рассказывал, что Степан Щипачев – поэт вполне бездарный, но тогда председатель Союза писателей Москвы и к тому же делавший различные либеральные телодвижения (именно он настоял на принятии в Союз писателей Беллы Ахмадулиной и, кажется, Андрея Синявского), решил узнать, кто же это такой Шаламов, и прислал к нему свою секретаршу с просьбой дать экземпляр рассказов. Варлам Тихонович был оскорблен тем, что какой-то Щипачев присылает к нему секретаршу, и рассказов не дал.[...]
Он сознательно не вступал в Союз писателей. Он не написал ни одного «датского» стиха (то есть к советским праздничным датам для лучшей проходимости сборника или подборки), что делал, например, осуждаемый за это, хотя и высока ценимый, Толя Жигулин. Шаламов всегда упоминал, что Аркадий Викторович Белинков для публикации блистательной книги о Тынянове включил туда упоминание, что троцкисты отравляли колодцы.
[...] я тем не менее никогда не возражал, слушая инвективы в их адрес Варлама Тихоновича, считая, что такие вопросы человек с таким (у меня тогда отсутствовавшим) опытом решает каждый для себя – нет одного решения для разных людей.[...]
Во всем этом мире Шаламов ясно понимал, что он один, один как хранитель высокой русской культуры, один как проживший и понявший ад несравнимый ни с какими кругами ни Данте, ни Солженицына, один как непримиримый борец, выкованный лагерем и противостоящий любым даже мельчайшим уступкам.
[...] возвращаясь к Шаламову, к его противостоянию и одиночеству и в слове и в жизненной позиции и в памяти нужно иметь в виду, что существовала тогда и вовсе гнусная часть лагерно-мемуарной литературы – пара книг, написанных вполне бездарными людьми, которые и до ареста были стукачами (Заславский и другие) и в лагере оставались ими же, почему и выжили. И с ними тоже либеральные советские интеллигенты ставили рядом поэзию и прозу Шаламова (повторяю – ему было совсем не до эмигрантских распрей, да он и не знал о них ничего).
Наконец была и еще третья позиция в отношении к «литературе ГУЛАГА», тихо, но твердо представленная очень достойным и уважаемым человеком и при этом – прекрасным прозаиком – Сергеем Александровичем Бондариным. Он считал, что суетиться со своими воспоминаниями – постыдно, а кому-нибудь что-то объяснить – невозможно. Сергей Александрович никому своих воспоминаний не показал, не попытался их опубликовать и не дал в «Самиздат», а с большим трудом добился того, чтобы ЦГАЛИ взял их на хранение без права показывать тридцать лет. Они до сих пор не опубликованы и, вероятно, никому не известны.
Читать дальше