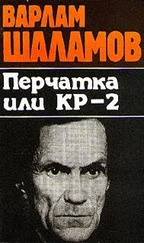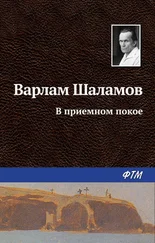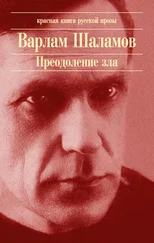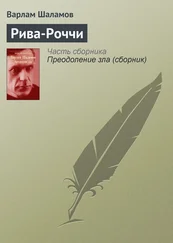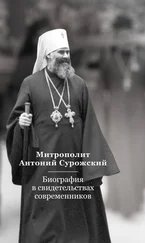По моему впечатлению, очень рельефно оформившемуся, вовсе не из-за меня Шаламов не поднял очередной, великой книги. Ему, знаете ли, очень трудно было наскребать материал. Туг на ухо. А для глухих, говорят, две обедни не поют. Помнится, докладываю ему подробности, а он никак не усечет, в чем перец и соль рассказа? Естественно, зэков в «воронке» повезут. Возили и будут возить. Как же иначе? Где ж крутой маршрут? Говорит, гефсимании не вижу! Я же, как дебильный неуч, начинаю кренделя выкаблучивать опять от печки, повторяю снова сказ, а Шаламов становится все нервнее, раздражительнее. Я горланю ему прямо в ухо, рупором руки сложил, а он, глухая тетеря, опять переспрашивает, моргает: где ужасы? Где Голгофа? Где индивидуальный надел и авва отче, если можешь, чашу мимо пронеси? Почему кисло в рот?
* * *
Коль скоро в балладе о нашем живописном, легендарно-умопомрачительном ОЛПе, на котором разразились события большой, я бы хотел сказать. исторической, космической важности (имеется в виду бунт; кто говорит – бунт, а кто – заварушка), на котором вовсю била ключом интеллектуальная жизнь в начале пятидесятых годов, собралось волею судеб немало гениальных голов, я интродуцировал сцену смерти, то очень опасаюсь: не дай Бог вы читатель, высмотрите в этой присказке литературно-художественный трюк, эдакое нарочито-намеренное «ружье», которое теперь обязано по законах жанра выстрелить, шибануть, так сказать, обрамить, фланкировать. В школ; все мы проходили Пушкина. Как же, «Евгений Онегин», роман в стихах. То да се. Пятое да десятое. Объясняли нам, что структурно роман в точности повторяет басню Эзопа «Журавль и Цапля», действие развивается между двумя письмами: письмо Татьяны к Онегину и письмо Онегина к Татьяне. Какая стройность! «Анна Каренина» начинается зловещим случаем на вокзале, кончается тем, как сама Анна сигает в пролет между двумя вагонами, падает под колеса поезда: «Свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». «Илиада»: единоборства Менелая с Парисом и Ахилла с Гектором – обрамляют и фланкируют остальные события. Но поверьте мне, читатель, что у меня вовсе не прием, как у Гомера, а тоскливое и не меркнущее в памяти событие жизни, о котором я в свое время чистосердечно, без дураков, рассказал Шаламову, а Шаламов признал это все негожим для своей новой книги, признал недостаточно апокалипсическим и социально значимым».
Евгений Борисович Фёдоров (р. 1929), писатель-лагерник, специалист по информатике, автор эпического произведения «Бунт»
_________________________
_____________
Виктория Швейцер
– А с Шаламовым он [Михаил Николаев, автор книги «Детдом» – прим. составителя] был знаком?
– Да, мы были знакомы с Варламом Тихоновичем и очень его любили. Мы встречались у Надежды Яковлевны Мандельштам, он приходил к ней два раза в неделю. Варлам Тихонович был человек совершенно замечательный, необыкновенный, странный... Одна из его странностей – они очень были дружны с Надеждой Яковлевной, у него в ее доме даже были свои тапочки; но в один прекрасный день они принципиально поссорились.
– Почему?
– Я не хочу об этом рассказывать. Между ними возникло принципиальное расхождение. И уходя он сказал: «Надежда Яковлевна, я к вам больше не приду». Она абсолютно не восприняла это всерьез. А он действительно больше ни разу не пришел. И я считаю, что если бы этого не случилось, многое в его жизни пошло бы совершенно по-другому.
«Виктория Швейцер в Доме-музее Цветаевой», из интервью, 2008, в блоге Николая Гладких http://gladkeeh.livejournal.com/99018.html
Виктория Александровна Швейцер (род. 1932), литературовед, текстолог, биограф Цветаевой
_________________________
_____________
Юлий Шрейдер
«В. Шаламову удалось выжить и не сломаться. На прямой мой вопрос, как это ему удалось, он ответил: «Никакого секрета нет, сломаться может каждый».[...]
Моя переписка с В. Шаламовым возникла как продолжение наших бесед о литературе. Последняя для него отнюдь не была чем-то отделенным от жизни. Скорее наоборот, литературный процесс и был для него (по крайней мере в период нашего общения) подлинной жизнью, а все остальное лишь необходимым жизнеобеспечением, к которому он предъявлял самые минимальные требования. Об этом свидетельствовал и сам образ его жизни, в котором все было посвящено гарантированию пригодных для него условий работы: никаких усилий ради минимального комфорта в еде, одежде или обстановке, никаких ненужных для работы или рабочего состояния встреч, никаких вне литературных целей. Предельно аскетичный образ жизни был вызван не только отсутствием материальных средств (в конце концов, есть роскошь бедняков), но и внутренней установкой на полную независимость от жизненных обстоятельств. Даже человеческие привязанности были, как мне кажется, для него непозволительной роскошью, дополнительной данью земной суете. Он не привязывался к людям, но допускал к себе тех, кто не нарушал его жизненного (или, что то же, творческого) ритма. Это был акт величайшего доверия с его стороны, хотя я не могу сказать, что он не нуждался в человеческом общении. Он просто боялся хоть как-то поступиться своей независимостью, ощущением точности собственного восприятия действительности, которое не должно было подвергаться помехам чьих-то суждений или представлений. Ведь на этих представлениях всегда сказывается давление каких-то стереотипов, канонов, готовых схем. Шаламов точно выразил свое убеждение в необходимости опираться прежде всего на собственные способности воспринимать действительность: «Смотря на себя как на инструмент познания мира, как совершенный из совершенных приборов, я прожил свою жизнь, целиком доверяя личному ощущению, лишь бы это ощущение захватило тебя целиком. Что бы ты в этот момент ни сказал – тут не будет ошибки».
Читать дальше