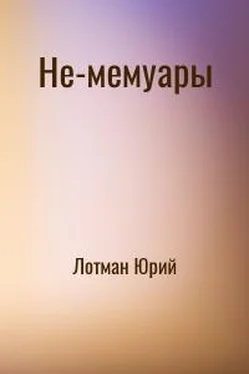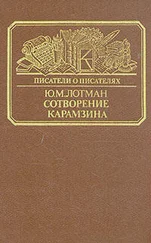Приведу еще один пример, правда уже из «драпа» сорок второго года. Мы проходили через брошенный военный лагерь, набрали там гранат и даже консервов, в лихорадке оставленных тыловиками, а мой лучший друг Лешка Егоров {12}нацепил себе нечто самое нелепое, что я видел за все время войны: фронтовую фляжку, отлитую из стекла какими-то выполнявшими план тыловиками; таскать стеклянную фляжку во фронтовых условиях — верх нелепости. Я с изумлением спросил Лешку, что это он, и получил объяснение: «Сохраняю в драпе вид бойца в полном обмундировании, чтобы видели местные жители, что мы не драпаем, а отступаем по плану». И он действительно не драпал, а отступал.
Начало войны догнало нас недалеко от старой границы. В середине ночи мы подошли к Днестру в районе Могилева-Подольского и сразу развернулись. Наблюдательный пункт был на старой границе, на возвышенном берегу Днестра. Линия занимала километров семь, посредине был разбит промежуточный пункт, и я был на промежуточном. Фронт еще не вышел к старой границе (на днестровский берег, где мы развернулись). Три дня мы стояли как бы в тылу, не видя перед собой никаких войск, Перед нами была Молдавия, в которой должны были находиться наши войска. Были ли они там — я не знаю, но с той стороны к нам из наших войск никто не пришел. Справа, в стороне Киева, грохотало. Над нами усиленно летали немецкие самолеты, но не бомбили. Самым крупным событием этих дней было следующее: мы расположились в районе, где раньше стояли наши тылы. Не ведаю, по какой причине тыловики удрали, причем так беспорядочно, как будто отступление было под прямым напором немцев, хотя те были еще очень далеко. Все свое имущество они побросали.
Лазая между брошенными ящиками с амуницией, снарядами и боеприпасами, мы обнаружили два больших ящика яиц (не знаю, сколько, но их было несколько тысяч). Мы сообщили об этом «по линии», и к нам потянулись со всех точек дивизиона. Помню, что сами мы ели яичницу из четырехсот яиц каждая после довольно тощего военного пайка.
Маленькое отступление о военном языке. Военный язык отличается прежде всего тем, что он сдвигает семантику слов. Употреблять слова в их обычном значении противоречит фронтовому языковому щегольству. Но это не индивидуальный акт, а каким-то образом возникающие стихийно диалекты, которые зависят от появления некоторых доминирующих слов, как правило связанных с доминирующими элементами быта (а быт складывается очень быстро, даже если он подвижный, как, например, в отступлении). Он предметно очень ограничен и общий для всего пространства фронта, так что слова этого быта становятся как бы субъязыком. Определяющее слово сорок первого — лета сорок второго года было «пикировать». Этим словом можно было обозначать почти все: «спикировать» могло означать «украсть», могло означать «удрать на какое-то мероприятие», например «спикировать к бабам» или же «завалиться спать» («пока вы чапали, я тут спикировал»), «уклониться от распоряжений начальства» и т. д. Обычно оно означало некое лихое действие, которым можно похвастаться. Помню, как разъяренный офицер из какой-то другой части, у которого из легковушки что-то украли, кричал на своего шофера: «Пока ты дрых, у меня тут пистолет и все барахло спикировали!» Были потом и другие такие слова, по которым мы сразу узнавали, с нашего ли фронта человек или нет, — своего рода жаргон.
Прямые же значения слов табуировались. Так, например, существовало устойчивое табу на слово «украсть». Оно казалось отнесенным к другой — гражданской и мирной — и оскорбительной семантике. Мы знали, что немцы употребляли вместо него слово «организовать», но словом «украсть» не пользовались, тоже находя в нем неприятный привкус.
Когда-то в романе «Огонь» Барбюс цитировал разговор окопного писателя с солдатами-однополчанами. Солдат интересовало, как их фронтовой товарищ будет описывать войну — с ругательствами или нет. И решительно заверяли его, что без ругательств написать правду о войне нельзя. По своему опыту скажу, что дело здесь не только в необходимости передать правду. Замысловатый, отборный мат — одно из важнейших средств, помогающих адаптироваться в сверхсложных условиях. Он имеет бесспорные признаки художественного творчества и вносит в быт игровой элемент, который психологически чрезвычайно облегчает переживание сверхтяжелых обстоятельств.
Настроение у всех было лихорадочно-веселое. Мимо нас на самую передовую линию проехали в дальнейшем совершенно бесполезные сорокопятки (45 мм или противотанковые пушки). К нам зашел покурить командир одной из этих пушчонок, лихой красавец-грузин со значками, которые выдавались победителям армейских соревнований. Помню, как лихо он держал наотмашь где-то добытую немецкую сигару (это был такой шик, что он даже не затягивался, чтобы подольше протянуть). Сообщив, сколько выстрелов он делает в минуту, он добавил: «Семь танков сожгу, прежде чем меня раздавят!» (формула эта звучала не ернически, а естественно — мы все так просчитывали). В ту же ночь я его снова встретил. Он был грязен, в разорванной гимнастерке, пушки рядом не было. «Понимаешь, Юрка (мы уже были на „ты“ и по именам), — не сказал, а буквально прорыдал он, — не берут. Я восемь раз попадал в танк, а ему (сменим лексику) хоть бы хны». Орудие его было раздавлено.
Читать дальше