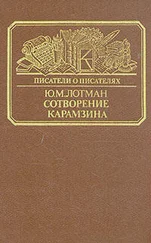Не без влияния обаяния Саши Данилевского я собрался стать энтомологом и усердно читал специальную литературу. Загадочный устрашающий и притягивающий меня мир насекомых до сих пор вызывает во мне странное чувство — я думаю, что именно насекомые, с их исключительно медленной эволюцией и поразительной силой выживания, будут последним населением нашей планеты. Они, бесспорно, наделены интеллектуальным миром, но этот мир для нас навсегда будет закрыт. Итак, с насекомых я «переселился» в русскую литературу. Под влиянием Ефима Григорьевича и Толи Кукулевича у меня пробудился интерес к литературе и — шире — к филологии вообще. Я начал изучать греческий язык (который я сейчас, к сожалению, совершенно забыл).
Мы все быстро взрослели. В классе по крайней мере у человек десяти были арестованы родители, Был арестован и вскоре расстрелян отец моего лучшего друга Борьки Лахмана. Он был видным партдеятелем и директором Института слабых токов. В доме у них висел большой портрет Рыкова, как говорил Борька, подаренный им самим. Расстрел отца и ссылка матери и сестры (Борька остался в квартире один, его не тронули) не повлияли на нашу дружбу. Мы продолжали встречаться по вечерам на его теперь уже пустой квартире или дома у нас и оба с радостью говорили, что скоро будет война. Сейчас это звучит дико. Начиная с Испании мы чувствовали всю неизбежность войны. Вообще, нет для меня ничего более смешного, чем рассуждения о том, что Гитлер внезапно и «вероломно» напал. Может быть, только лично Сталин был опьянен тем, что он считал очень хитрым, и заставил себя верить в то, что союз с Гитлером устранил опасность войны, но никто из нас в это не верил. Правда, некоторые девчонки (я забегаю на год с лишним вперед и, перескочив время испанской войны, вспоминаю об эпизоде, когда Риббентроп приехал в Москву) вдруг начали носить прическу арийских дев (валиком), и одна из однокурсниц Лиды у нас в доме говорила, что у Риббентропа «неотвратимо влияющие глаза». Но это такое краткое германофильство в кругу, о котором я могу говорить по личным впечатлениям {5} 5 В дальнейшем я не буду повторять этой оговорки, но ее нужно иметь все время в виду, даже когда я говорю о газетных сообщениях и политических событиях.
, охватило только девчонок — старших школьниц и студенток {6} 6 Позже в партизанском фольклорном тексте, переделанном из песни «Спят курганы темные…», популярной в последний предвоенный год (она из фильма «Большая жизнь»), были такие строки: Под немецких кисонек (пелось и «ласточек» и «девушек») Ты прическу делаешь, Губы понакрасила, (это тогда был такой разврат!) Вертишься дугой. Но не нужны соколу Выходки немецкие, И пройдет с презрением Парень молодой. А вот текст, который я сам записал в партизанском отряде во время войны (стихи угнанных в Германию мальчиков и девочек): ДАЙТЕ ОТВЕТ Задайте вопрос и ответьте. Любезные дочки страны, Что может подлей быть на свете Того, что творите здесь вы. Меж тем, как кругом погибает Отчизна…… Народ невозможно страдает, Страна погибает в крови, А вам — все равно наслаждаться, Снабжая Европу собой, И вниз головою бросаться, Обняв итальянца рукой. Иль с чехом в дорожной канаве Как в брачной постели лежать И гордость советской…… Везде бесконечно терять. Это было в Белоруссии, район Скопен, там было много мальчишек из партизанских отрядов — их, наверное, потом всех пересажали. Оттуда начался большой прорыв к Минску — к нам приехал Жуков.
.
Как сейчас помню — не помню только, кто их сказал, я или Борька Лахман, — слова: «Тогда никому не придет в голову считать, кто троцкист, а кто бухаринец, а все будут солдаты на фронте». А поскольку всем было ясно, что после испанской войны будет большой фронт, испанскую войну мы переживали как что-то непосредственно наше — я помнил названия сотен военных пунктов, места сражений Интернациональной бригады. Замечу в скобках, что Хемингуэя тогда мы уже знали — мы читали его «Прощай, оружие!» и зачитывались им — это было опубликовано в журнале, который тогда назывался еще, кажется, «Интернациональная литература». Вообще мы очень много читали, прямо как опьяненные. За последние два школьных года я перечел собрание Толстого, отец мне купил двенадцатитомник Достоевского. У нас в семье детям дарили только книги. На это денег ни при каких обстоятельствах не жалели. А читал я как осатанелый.
Мы с Борькой даже пробовали пробраться в питерский порт (откуда тогда корабли отправлялись в Испанию), чтобы пролезть в трюм и удрать. Но нас, конечно, поймали и, подвергнув тщательному допросу (бдительность!), все же с миром отпустили. Борьку не взяли в армию в сороковом году, когда взяли меня. В это время он переживал сильное любовное увлечение. (Его возлюбленная Женя Зенова потом вышла замуж — это уже впечатления послевоенные — за человека, который, видимо, очень сильно ревновал ее к памяти погибшего Борьки и, видимо, внушил прежде ей совершенно чуждые антисемитские настроения и речи. До войны ничего подобного, конечно, не было {7} 7 Замечу в скобках, что и на фронте я совершенно не сталкивался с этими проблемами. Я иногда раздражал окружающих, как может раздражать всякий человек, например, отсутствием навыков физической работы. Но очень быстро я это преодолел и с тяжелым физическим трудом справлялся легко; в частности, привык таскать тяжелые 160-миллиметровые снаряды. А снаряд, замечу для читателя, абсолютно безопасен, если уронить на землю; чтобы сделаться опасным, он должен быть повернут вокруг своей оси — тогда взрыватель приводится в боевое положение; нам приходилось ронять тяжелые снаряды взрывателем на камни так, что взрыватель совершенно деформировался. Все же экспериментировать в этой области никому не советую. (К сведению любопытствующих, так обстоит дело именно со снарядами, но не с минами.)
).
Читать дальше