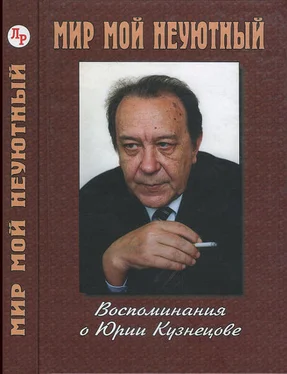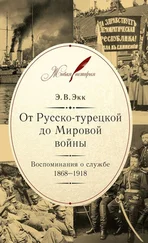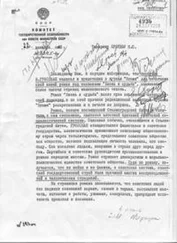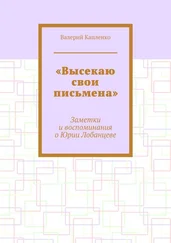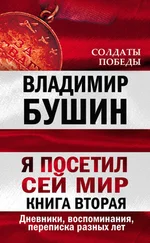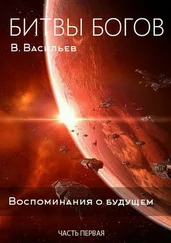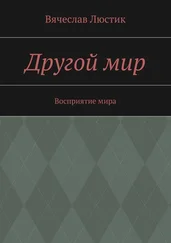Между людьми есть отношения, продиктованные дружбой, влюблённостью, разными житейскими обстоятельствами. А есть что-то другое, когда сразу и не объяснишь, что вас спаяло. Но понимаешь — это драгоценно, это нельзя терять ни при каких обстоятельствах. Может, это подсказка нагоревавшейся души?
На протяжении нескольких лет я имела счастливую возможность так или иначе пересекаться с Юрием Кузнецовым: и когда изредка звонила ему в редакцию и ещё реже — домой, и когда забегала в редакцию, чтобы оставить подборку или забрать вышедший журнал. Я могла бы делать это гораздо чаще, но… Теперь жалею.
Рассказывать о Юрии Кузнецове — безусловном, первейшем поэте двух-трёх последних десятилетий русской литературы и русской истории, мне трудно: большая боль молчалива. Да и имею ли я право?.. Я в этом не уверена. На умерших, на ушедших в иные пределы, у нас ещё меньше прав, чем на живых. Может, он сам подаст знак, как это было не раз здесь, на земном плане.
Вот, например, одно из наших самых первых пересечений: 1995 год. Звонок телефона. В трубке густой мужской голос. Назвался. Приглашает зайти в издательство «Советский писатель» и взять трёхтомник Афанасьева, бесплатно, от него в дар. Я, понятно, поблагодарила, но пошла не сразу; когда пришла, стопки с томами почти истаяли. Взяла что осталось. Драгоценный труд Афанасьева по славянской культуре безошибочно поручили отредактировать именно Юрию Кузнецову. Он, понятное дело, вложил в это издание всё старание, всё внимание и потом с явным удовольствием делал эти роскошные подарки. Дарил — «чтобы прочитали»… И сам он в очень и очень многом «из шинели» Афанасьева, из его «Поэтических воззрений славян на природу». В этот раз никакого разговора между нами не было. Я взяла книги и, поблагодарив, ушла.
Следующий звонок от Кузнецова последовал только через пару лет: он начинал работать в журнале «Наш современник». Умер Геннадий Касмынин, ведший отдел поэзии в самое, думаю, тяжёлое для патриотического журнала время (почти все отпрянули, то ли испугавшись, то ли пережидая. А мы с Олей Гречко именно тогда впервые принесли стихи в «Наш современник»…).
Внешнее впечатление о человеке тоже интересно и важно. Помню Юрия Кузнецова в оранжевом пиджаке (он не без лёгкого юмора рассказывал мне, как и по какому случаю его приобрёл). Помню в сиреневом длинном плаще, и в другой раз — у Литинститута, куда я иногда ходила на его лекции, в экстравагантном подобии бушлата, и в не менее удивительном головном уборе. Он не был чужд игры, артистизма. Жаль, что я не сразу догадалась прихватывать с собой фотоаппарат.
«В столетии я друга не нашёл», — это, такое понятное мне, признание он сделал давно. От этого чувства горько, но к нему привыкаешь и невольно сублимируешь энергию в другое, в другом направлении. «Искал я святости в душе…» — это духовный труд поэта в последние годы жизни: поэма «Путь Христа», «Сошествие в ад», одна из последних подготовленных им поэтических подборок в № 10 «Нашего современника» — замечательные стихи протоиерея Вячеслава Шапошникова из Костромы. А сам он… до последнего края крепко держался за верный посох: «Нет! Я не спился, дух мой не убит, и молится он истинному Богу».
…Но нагрузка на сердце была колоссальная. Подумайте только — почти каждый день быть чтецом потока стихов со всей России о её бедах, боли и скорбях; ведь русский поэт не способен превратить поэтическое слово в игрушку-погремушку…
Я старалась его щадить, не навязывала себя. Хотя в той полосе полнейшей изоляции от всех и вся очень хотелось просто человеческого голоса, пусть и такого, немногословного, обрывочного, не допускающего «распускания соплей», то есть не очень-то пожалуешься на жизнь. Однажды именно с этим голосом произошла казусная история. А время было такое подлое — самый разгар тёмных страстей и помыслов. В телефонную трубку можно было услышать о себе разное, да ещё и охотники за одинокими и беззащитными были всегда рядом… Как раз было средоточие такого — на меня — телефонного наступления. Услышав в трубке низкий, неразборчивый, далеко не ласковый голос, я его просто куда-то послала… А это, как оказалось, был Юрий Поликарпович. Но он, слава Богу, всё понял как надо и попросил жену перезвонить мне, а потом уж говорил сам.
Когда он взялся составить мне мою скромную книжку (стихи не выходили десять лет), тогда наше общение загустело. И отношения значительно растеплились. Я, съездив на северную родину, привезла много фотографий. Он восхищался нашими лесными просторами. Увидев на старых фотографиях моих предков: отца, дядьёв, — тоже восхитился, назвав орлами. Никому до него здесь, в Москве, не были интересны мои предки, мои корни. Нет, он был очень внимательный, очень зоркий человек, но не всё хотел видеть.
Читать дальше