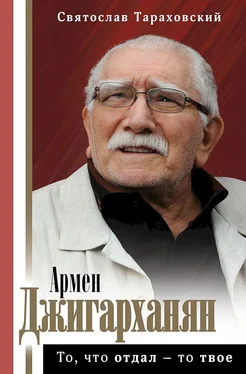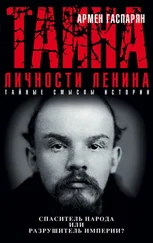Потому к исходу второго часа счастливого семейного застолья, когда вновь позвонил Осинов, Армен ответил.
— Поздравляю вас, шеф! Все поздравляют, говорят спасибо! — закричал Осинов. — У нас успех! Крутяк! Практически, лом!
— Знаю. Спасибо. Всем — спасибо, — ответил Армен, которого больше волновало другое: прочел или не прочел Иосич его записку на столе. — Что еще?
— Я вас искал!
— Вот он я… — похоже, не читал, подумал Армен.
— Я-то хотел, чтоб вы вместе с нами, чтоб вы сказали слова и вместе с нами — по рюмке за успех!
— Уже выпил. За всех за вас, за театр! — точно не читал, подумал Армен и успокоился. — Ваню — поздравь, режиссеров, всех целую сам знаешь куда.
— Знаю, шеф, уже чувствую, жжет сами знаете где. Когда мы вас увидим?
— Работайте, други. Я отдохну и обозначусь. Работайте.
Так ответил Армен и вдруг на простой этой фразе, как на волшебном оселке, отчетливо осознал, что насчет театра и записки поступил правильно. И сказал сейчас правильно: работайте. Пусть работают, ребята на все сто процентов своей молодой свободы. Пусть пашут на театр, а он посмотрит на них с самой далекой, невозвратной стороны.
Слово «невозвратной» пришло к нему само, легко и естественно и очень порадовало своей точностью.
Да, именно так: с невозвратной стороны. С той стороны, откуда не возвращаются. Его нет, он умер. Пусть ребята пашут и делаются самостоятельными. Мама не сошла с ума, она была права, когда сказала, что он теперь полсилы и с него театра хватит. И Симонян был прав: старая раскоряка не должна никому мешать ни на поле, ни в театре.
Заполночь проводили домой дорогого Артура.
И возлегли на законное ложе.
И впервые обнялись. Но не так, как раньше, не как половинки, жадно стремившиеся друг в друга, а как воистину воссоединившееся тело — с одним теплом, одним сердечным ритмом, одним здоровьем и одной, данной на двоих, жизнью. Ошибки прошлого уплыли и разбились на камнях и порогах, они снова были вмете. Оба прочувствовали это, утолили свои печали и счастливо заснули. Обоим стало ясно, что теперь так будет до конца.
А потом она повезла его в санаторий в Крым, на синее море, в местечко под названием Фиолент.
Он как услышал такое название, вздрогнул, воодушевился, и весь полет до Симферополя, закрыв глаза, протяжно повторял «фиолент», уверен был в тамошней сказке и чудесных превращениях наяву.
Так и произошло.
Как увидел он беспредельность моря, как вдохнул его присоленный воздух, как оглоушило его буханье волн, как обдали остро летящие брызги, как услышал он визги чаек, забыл обо всем на свете.
Сел на лавочку у моря и сказал, что идти никуда не хочет.
— Здесь хочу сдохнуть, — сказал он, честно высказал то, о чем подумал. — Сижу здесь — ни о чем другом больше не думаю. Здесь.
— Даже о театре не думаешь? — спросила она первое, что пришло ей в голову.
— Забудь! Всегда все испортишь, — сказал он. — Как можно думать о мелочах, если сидишь у моря — запомни, все мелочь по сравнению с ним!
— Театр — мелочь?
Он смерил ее взглядом, который в хорошей литературе назвали бы испепеляющим. И сказал:
— В карман положи свой театр. И вынеси на помойку. Слава богу, Соломон был прав: и это у меня прошло!
— Не верю.
— Не верь. О двух вещах жалею: не стал поэтом и не жил у моря. До сих пор, когда вижу яхту и паруса, представляю на ней себя. Большое, наверное, счастье ходить под парусом, резать зеленую волну, дышать морем! А я даже плавать не умею!
Санаторий был так себе, из советских еще, но понравился ему тем, что располагался на берегу и ночью, намертво засыпая под шорох волн, он уплывал в счастливую жизнь, слышал аплодисменты и живые звуки.
Он слышал голоса — свои и партнеров и заново воплощался в победных своих ролях. Он был Большим Па из «Кошки на раскаленной крыше», Стенли Ковальским из «Трамвая „Желание“», Нероном, Сократом или адмиралом Нельсоном с черной повязкой на одном глазу.
Во сне под шепот воды он никогда не спал, постоянно был на сцене, он играл, он жил.
А разумными прозаическими днями театр был от него далеко, так невообразимо далеко, будто вообще был неправдой. А правдой было здоровье, прогулки, процедуры, диета, беседы с врачами и скучная борьба с непобедимым сахаром.
Здоровье поправлялось, но санаторная жизнь все равно была муторна и занудна.
Зато рядом была вода, волна, море, ветер и, значит, всегда было рядом ни с чем не сравнимое счастье, которое осталось с ним навсегда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу