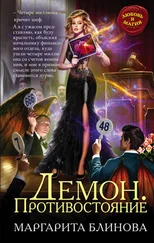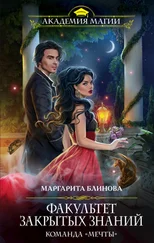Для этой картины Высоцкого попросили написать песню, которую актеры Ялович, Абдулов и Пешкин должны были петь в одном из эпизодов: трое разбитных парней под проливным дождем пляшут и поют, аккомпанируя себе на гитаре. Так они продвигаются по направлению к новой квартире Маркина, где затеяно многолюдное новоселье. Но песню Высоцкого забраковало киноначальство, решив, что текст — «с блатнянкой и мелодия — тоже». У Высоцкого по этому поводу было другое мнение. Он считал, что в контексте эпизода только такая песня и приемлема, в этом весь ее смысл. «Но, — с иронией констатирует поэт, — «нашу могучую кучку» не переубедишь».
В итоге мелодию для песни написал А. Зацепин, а текст Л. Дербенев. И получилась она тусклой и бездарной, как сотни подобных жалких поделок. Эти «вирши» просто нельзя не привести для ознакомления с ними современного читателя. Вот рифмы, которые вершители фильма предпочли песне Высоцкого:
Нам говорят, нам говорят без всякой лести,
Без вас от скуки мы умрем, да, да, умрем.
И мы всегда, и мы всегда и всюду вместе
Везде втроем, всегда поем…
Высоцкий в то время продолжал испытывать материальную нужду. Он писал Л. Абрамовой: «если не будет съемок еще 2 дня — будет 50 % зарплаты. Это плохо. Я живу экономно и не занимаю…» Всего за год до описываемых событий он вынужден был отказаться от предложения режиссера Дормана отдохнуть и поработать над ролью в санатории Совета Министров, за счет актера (путевка была платной): «Я сказал, — писал тогда Высоцкий Абрамовой, — … что беден и пусть министры и едут работать над ролью, а я повременю…»
В период съемок «На завтрашней улице» трудная жизнь Высоцкого никак не изменилась к лучшему. Да и откуда бы «свалилась» такая перемена? Но, тем не менее, он отказался заработать «лишние» деньги, которые, несомненно, мог бы получить за песню, если бы переделал ее соответственно вкусам и требованиям хозяев положения, — «могучей творческой кучки». С удовольствием можно констатировать один из многих и многих фактов принципиальности Высоцкого в искусстве, который легко комментируется его же доводами, изложенными столь выразительно в упомянутом выше письме: «Хрен с ними — пусть им будет хуже, а писать как Пахмутова я не буду. У меня своя стезя, и я с ее не сойду».
В итоге 1963—64 годы не стали годами достижений для Высоцкого. Эпизоды в фильмах, в которых он участвовал, можно было сосчитать на пальцах одной руки. Роли были малы, драматургия их — бессодержательна и, надо сказать, необходимый актерский опыт все еще не накоплен. Результаты получались пока невыразительными. Последнее — логично: личность Высоцкого, актера, певца и поэта характерна не ранним, «вундеркиндовским» развитием. И первые стихи, известные нам, вышли из-под его пера не в школьном возрасте, как у многих других поэтов, и первым вузом его стала не Школа-студия МХАТа, а строительный институт, и театр, в котором он, наконец, обрел себя, был далеко не первой попыткой в поисках своего актерского направления. А на экране…
Ана экране появилась роль Андрея Пчелки в фильме «Стряпуха»(1965) Э. Кеосаяна. Ею Владимир Высоцкий заканчивает свой, что называется приготовительный класс в кинематографе. Перейдем же к этой роли, о которой сам актер сказал, что до какой же «степени ничтожества» он вынужден был дойти, согласившись на работу в «Стряпухе»…
Был ли он прав, так уничтожая «Стряпуху»? редь в этом же фильме снималась Светлана Светличная, Инна Чурикова, Георгий Юматов, Людмила Хитяева, Валерий Носик, другие актеры, гораздо более известные, чем в те времена Высоцкий, еще не сыгравший ни одной большой, интересной роли? Но объяснение этому убийственно-грустному заявлению найти нетрудно: актер ощущал в себе силы иные, значительные, а время уходило, и вот пошел уже седьмой год его «пробивания» в кинематограф, а настоящего творчества, по сути, не было. Будет ли?
Такой вопрос актер мог себе задать. Но теперь уже только в отношении кинематографа! Ведь в сентябре 1964 года в его судьбе произошло чудо: Юрий Любимов взял Высоцкого в свой Театр на Таганке. Работы поначалу были незначительные: в «Добром человеке из Сезуана» Высоцкого ввели на роль Второго бога, затем — Племянника, потом — Мужа. В «Герое нашего времени» у него была крошечная «ролька» драгунского капитана (и мы только теперь можем вообразить, каким бы он стал Печориным!); в «Антимирах», «Десяти днях, которые потрясли мир», в «Павших и живых» у Высоцкого роли были тоже совсем небольшие, как, впрочем, и у всех актеров, занятых в этих спектаклях. Время Высоцкого в Театре на Таганке наступит только в 1966 году, когда он получит роль Галилея в брехтовской пьесе. А «Стряпуха» в кино снималась на год-полтора раньше. Было отчего испытывать тягостные минуты!
Читать дальше
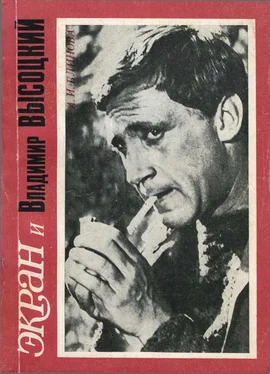
![Маргарита Блинова - Звездная сказка [СИ]](/books/28525/margarita-blinova-zvezdnaya-skazka-si-thumb.webp)
![Маргарита Блинова - Невеста по обмену [СИ]](/books/35024/margarita-blinova-nevesta-po-obmenu-si-thumb.webp)