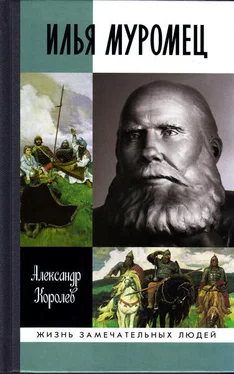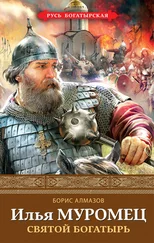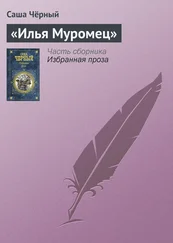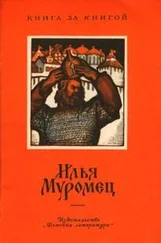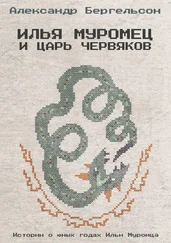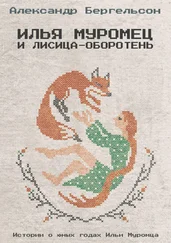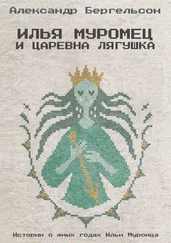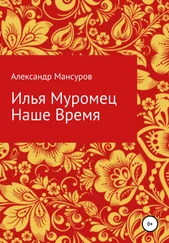О Кирше Данилове было известно только то, что это имя значилось на первом листе рукописи, утерянном за время ее путешествия в Калугу и хождения по рукам среди друзей-знакомых Якубовича. В одной из песен сборника о вероятном составителе сборника сообщается любопытная подробность:
Только жаль доброва молодца похмельнова,
А того ли Кирилы Даниловича:
У похмельнова доброва молодца бойна голова болит.
«А вы, милы мои братцы-товарищи-друзья!
Вы купите винца, опохмельте молодца.
Хотя горько да жидко — давай еще!
Замените мою смерть животом своим:
Еще не в кое время пригожусь я вам всем!» {7} 7 КД. С. 163.
Уже внимательный Калайдович обратил внимание на эти строчки, равно как и на мелькнувшее в другой песне сообщение: «По-нашему-то, сибирскому». Но только изыскания советских ученых позволят собрать о Кирше Данилове (Кирилле Даниловиче) хоть какие-то сведения. Выяснится, что во второй трети XVIII века он работал мастером у кричного горна на железоделательном заводе Демидовых в Нижнем Тагиле. Этот крепостной, имея репутацию «веселого человека», по существу скомороха, увеселял своих хозяев песнями, исполняемыми под аккомпанемент тарнобоя (род балалайки с восемью медными струнами). Время составления им сборника можно определить, пусть и весьма примерно, как середина 1740-х годов. {8} 8 Подробнее см.: Горелов А. А . Заветная книга //Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Под ред. А. А. Горелова (Полное собрание русских былин. Т. 1). СПб., 2000. С. 5–40.
Сборник Кирши Данилова содержал, наряду с произведениями других жанров, 28 былин. Еще больше должно было дать Рыбникову, будь оно издано, собрание песен знаменитого славянофила Петра Васильевича Киреевского (1808–1856). Во второй четверти XIX века, после издания «Слова о полку Игореве» и «Древних российских стихотворений», в среде русского образованного общества носилась идея собирания фольклорных материалов, и прежде всего песен. «Слово» и сборник Кирши казались только вершиной айсберга. Горячим апологетом идеи издания русских песен был А. С. Пушкин, обсуждавший ее с Киреевским. Выше приведены слова Гоголя о русской песне. Примерно так же представлял себе дело и Киреевский. «Едва ли есть в мире народ певучее русского! — восклицал он в 1848 году. — Во всех почти минутах жизни русского крестьянина, и одиноких и общественных, участвует песня; почти все свои труды, и земледельческие, и ремесленные, он сопровождает песнею. Он поет, когда ему весело, поет, когда ему грустно. Когда общее дело или общая забава соединяет многих, — песня раздается звучным хором; за одиноким трудом, или раздумьем ее мелодия, полная души, переливается одиноко. Поют все: и мужчины и женщины, и старики и дети. Ни один день не пройдет для русского крестьянина без песни; все замечательные времена его жизни, выходящие из ежедневной колеи, также сопровождены особенными песнями. На все времена года, на все главные праздники, на все главные события семейной жизни есть особые песни, носящие на себе печать глубокой древности». {9} 9 Русские народные песни, собранные Петром Киреевским. Ч. 1. Русские народные стихи // ЧОИДР. Год третий. № 9. М., 1848. С. I.
Собирать песни Киреевский начал с 1831 года. Сперва им были охвачены подмосковные села Ильинское и Архангельское. Дальше возникла идея обойти центральные губернии России. Собиратель надеялся таким образом «найти всю русскую историю в песнях». {10} 10 Соймонов А. Д . Указ. соч. С. 236.
Летом 1834 года Петр Васильевич отправился в Тверскую и Новгородскую губернии. Как и много позднее, в случае с П. Н. Рыбниковым, поведение путешественника не осталось без внимания местного начальства. Полицейские власти Осташкова на запрос тверского губернатора сообщили, что Киреевский «гулял по улицам, осматривал все части города, два раза был в монастыре Нила… сверх того оный Киреевский точно издерживает полуимпериалы, разменивая таковые на мелочь, которую раздает частию бедным, а большею частию таким из женского пола, которые знают много русских песен, которые ему диктуют, и он описывает оные, скопляет, якобы для какого-то сочинения русского песенника». {11} 11 Там же. С. 191.
Из Осташкова Киреевского выпроводили. На очереди был Новгород. Киреевскому, как и многим другим, казалось, что начать изыскания нужно именно с территории бывшей здесь когда-то республики. Но Новгородчина — в его времена зона военных поселений, «с которыми даже и тень поэзии не совместима», {12} 12 Там же. С. 188.
— не оправдала надежд собирателя. По существу и отсюда его выслали.
Читать дальше