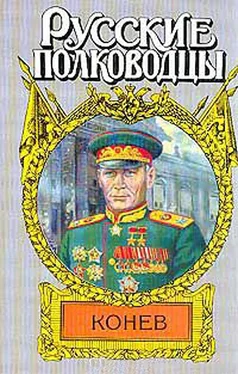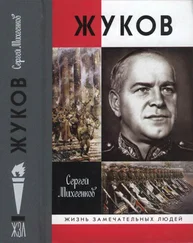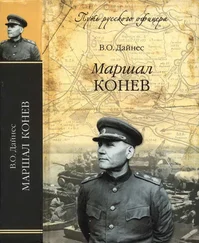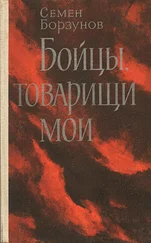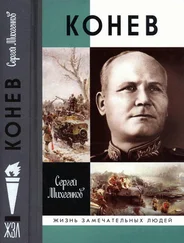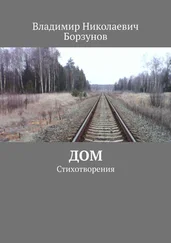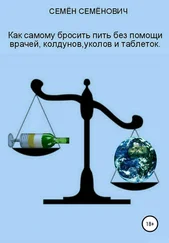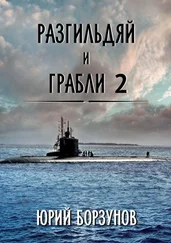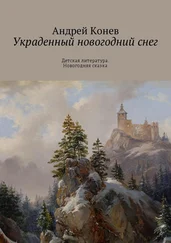Как только Паршин почувствовал себя лучше и стал ходить с палочкой, без помощи костылей, он написал рапорт с просьбой отправить его на фронт. Рапорт этот попал к замполиту майору Попову, который временно исполнял обязанности начальника госпиталя. На другой же день он вызвал офицера на беседу и заговорил с ним о состоянии его здоровья.
— О фронте вам и заикаться ещё рано, — сразу же сказал он. — Врачи считают, что раны не зажили. Единственно, что мы можем для вас сделать, — дать краткосрочный отпуск в родные края.
— Но я же здоров и могу ехать на фронт! — настаивал Паршин на своём.
— Это вам так кажется. Врачам лучше знать. Они считают, что вам надо ещё дней десять-двенадцать находиться под их присмотром, так как ваши старые раны продолжают кровоточить, да и рука ещё висит как плеть. Какой же из вас вояка?
Видя, что просьбу его не удовлетворят, Паршин согласился на десятидневный отпуск. И хотя родственников у него почти не было, ему хотелось побывать на родном заводе, где он до ухода в армию работал токарем. Повидать тётю Катю, которая как родного сына вырастила, воспитала и выучила его. Встретиться со своими двоюродными сёстрами — Верой и Леной, с которыми бегал в школу, дружил и чувствовал себя родным в их семье. Но больше всего, и это скрывал ото всех, мечтал повидаться с Галей. Соглашаясь на краткосрочный отпуск, Паршин твердо договорился с командованием госпиталя о том, что его назначение на Первый Украинский фронт останется в силе.
И вот он в родном селе. Никого из знакомых ребят он не встретил: все были на фронте. Одни уже погибли, другие пропали без вести, третьи лечились в госпиталях, а остальные продолжали воевать. Не оказалось в селе и знакомых девчат: многие подались на авиационный завод или, окончив курсы медсестёр и радисток, находились в боевых рядах. Не застал он на заводе и Галины: два дня назад она уехала в лётную часть с делегацией рабочих, сопровождавших на фронт новую партию истребителей.
Пожил несколько дней у тёти Кати, которая заметно постарела, но по-прежнему относилась к Николаю как к родному сыну. Походив по знакомым с детства местам, Николай отправился в город, на родной завод. С ним поехала и тётя Катя. Там он тоже мало кого встретил из прежних друзей: почти все находились на фронте. Зато оказались на месте говорливые двоюродные сестрёнки — Вера и Лена. Казалось, что беседам не будет конца… Но всё хорошее быстро кончается: пришёл день, и он, попрощавшись с друзьями-товарищами и односельчанами, отправился на вокзал, а оттуда снова поспешил на фронт.
Конев считал для себя святым правилом знать о войсках все: всесторонне изучал положение дел в войсках на том или ином участке фронта. Если требовалось, всё осматривал лично, проверял, уточнял и тут же отдавал необходимые распоряжения. Заранее при этом прикидывал в уме возможные варианты, которые могут возникнуть в ходе предстоящих наступательных боев. Он любил повторять старую пословицу: «Не зная броду, не суйся в воду». По его мнению, военачальник не должен стесняться ползать на брюхе по передовой, чтобы как можно лучше изучить оборону противника, особенно в полосе прорыва, систему его огня и тому подобное. Разумеется, и свои позиции надо знать досконально.
Но знакомиться со своими войсками можно по-разному. Можно изучить по карте расположение соединений, расспросить начальника штаба о том, чего стоит тот или иной командир, чего от него следует ожидать, особенно в трудной обстановке. Ещё можно собрать совещание в штабе фронта, выслушать доклады о положении дел в дивизиях и корпусах, пожурить за упущения, записать просьбы, поставить задачи. Всего этого, считал Конев, недостаточно.
Встречаясь с людьми, он старался глубже познать самочувствие и настроение людей, чтобы быть уверенным в их готовности к выполнению боевой задачи. Ему импонировало, когда на совещаниях или в беседах генералы и офицеры не только соглашались с его доводами, но и возражали, спорили, отстаивали свою точку зрения.
Изучив предварительно по донесениям и справкам обстановку на новом фронте, Конев задумался. Ещё раз бросил взгляд на карту. В ходе предшествующих операций образовались в полосе фронта два обширных выступа. Один — севернее Припяти — сильно вдавался в нашу оборону. Немцы назвали его «белорусским балконом» и рассчитывали использовать как удобный плацдарм для прикрытия подступов к Варшаве и Берлину. С этим ясно: пусть о нём болит душа у командующих Белорусскими фронтами. Ему, Коневу, достался другой выступ, что южнее Припяти, образовавшийся в результате успешного наступления двух Украинских фронтов. Он хорошо ему знаком. Здесь наши войска глубоко вклинились в оборону противника, прижали его к Карпатам, с юга охватили основную немецкую группу войск и рассекли вражеский фронт, изолировав тем самым группу армий «Северная Украина» от группы армий «Южная Украина». Создались выгодные условия для проведения новых наступательных операций на Львовском и Бухарестском направлениях. 1-й Украинский фронт возьмёт на себя Львовское направление. Но где нанести главный удар — вот задача.
Читать дальше