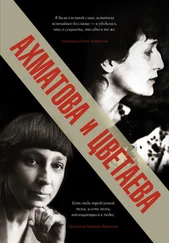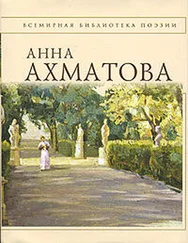Столкновение вплотную с этим знанием, точнее, с этой памятью о реорганизованном Времени, приводит в результате к невероятному ускорению мышления, которое отнимает у открытий, порождаемых реальностью, их новизну, если не самую значимость. Ни одному поэту не дано преодолеть этот разрыв; но если он добросовестен, он может понизить высоту тона или приглушить интонацию, чтобы уменьшить степень своего отстранения от реальности. Иногда это делается из соображений чисто эстетических: дабы убрать из голоса излишнюю театральность, лишая его бельканто. Чаще же целью подобного камуфляжа является опять-таки сохранение разума, и Ахматова, поэт строгой метрики, пользовалась этим средством неуклонно. Чем тверже она придерживалась его, тем неумолимее голос ее приближался к безликой тональности Времени, пока они не слились в нечто, что заставляет вздрагивать пытающегося разгадать — как в «Северных элегиях», — кто там прячется за местоимением «я».
Выпавшее на долю этого местоимения выпало и другим частям речи, то уменьшающимся, то увеличивающимся в порожденной просодией перспективе Времени. Ахматовскому творчеству присуща чрезвычайная конкретность, но чем конкретнее были ее образы, тем более вневременными они становились из-за сопровождающего их размера. Не существует стихотворений, написанных одного сюжета ради, как и не бывает жизни, прожитой ради некролога. То, что называется музыкой стихотворения, есть, в сущности, процесс реорганизации Времени в лингвистически неизбежную запоминающуюся конструкцию, как бы наводящую Время на резкость.
Звук, иными словами, является в стихотворении воплощением Времени — тем задником, на фоне которого содержание приобретает стереоскопический характер. Сила ахматовских строк заключается в ее способности выразить безликий эпический размах музыки, каковой более чем совпадал с их содержанием поэтическим; в особенности начиная с 20-х годов и далее. Действие, оказываемое ее инструментовкой на содержание, сходно с ощущением человека, предполагавшего, что его ставят к стенке, и неожиданно обнаружившего за спиной линию горизонта.
Вышесказанное следует иметь в виду иноязычным читателям Ахматовой, поскольку горизонт этот начисто пропадает в переводе, оставляя на странице пусть и насыщенное, но все же одномерное содержание. С другой стороны, иноязычный читатель может утешиться тем, что и отечественной аудитории приходилось иметь дело с ее творчеством в чрезвычайно искаженном виде. Цензуру с переводом сближает их общий принцип «по возможности»; следует, однако, заметить, что языковые барьеры зачастую оказываются не ниже, чем воздвигаемые государством. Ахматова окружена обоими, и только первые проявляют признаки того, что они поддаются.
«Anno Domini МСМХХI» был ее последним сборником: в последующие сорок четыре года она была лишена возможности опубликовать самостоятельно составленную книгу. В послевоенный период, строго говоря, появилось два тощих сборника ее произведений, составленных преимущественно из перепечаток ранней лирики плюс сугубо патриотических стихов военного времени и раешников, приветствующих наступление мира. Эти последние были написаны ею с целью вызволения из лагеря сына, где он, тем не менее, провел в общей сложности восемнадцать лет. Эти публикации ни в коей мере не могут рассматриваться как ее собственные, ибо они составлялись редакторами госиздательств, чьей целью было убедить публику, особенно зарубежную, что Ахматова жива-здорова и лояльна. В них вошло около пятидесяти стихотворений, имевших весьма немного общего с тем, чем она занималась на протяжении четырех десятилетий.
Для поэта такой величины, как Ахматова, это было равносильно погребению заживо с парой слов на плите, указывающих, чья это могила. Погребение это было результатом нескольких сил, по преимуществу исторических, чье основное свойство — вульгарность и чей непосредственный инструмент — государство. Тем более, что к MCMXXI, то есть к 1921 году, новое государство уже было на ножах с Ахматовой, муж которой, поэт Николай Гумилев, был расстрелян органами госбезопасности — по слухам, по прямому приказу В. И. Ленина. Принцип «око за око» сработал, новое государство не могло ожидать от Ахматовой ничего иного, кроме ответного удара, — особенно принимая во внимание ее пресловутую склонность к автобиографичности.
Такова, судя по всему, была логика государства на протяжении полутора десятков лет, последовательно уничтожившего почти полностью все ее окружение (включая ближайших друзей, поэтов Владимира Нарбута и Осипа Мандельштама). Кульминацией этого явился арест ее сына, Льва Гумилева, и ее третьего мужа, искусствоведа Николая Пунина, вскоре умершего в тюрьме. Затем грянула Вторая мировая война.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу