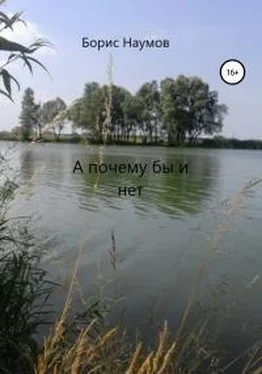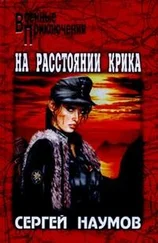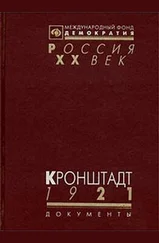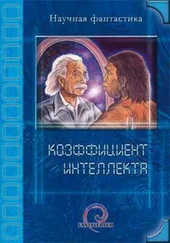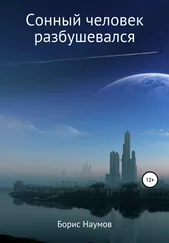Ещё через полчаса из штаба вышел старший лейтенант — молодой, стройный и очень красивый с большими глазами. Я сразу дал ему кличку «Кадочников».
— Наумов, — подошёл он ко мне, — следуй за мной.
Метров за двести от штаба стояло одноэтажное здание, типа барака — видно, на севере барак любимое архитектурное сооружение.
— Это взвод связи, — повернувшись ко мне, сказал «Кадочников», — отныне тут твой дом.
— Смирно! — произнёс наиболее популярное в армии слово стоявший возле тумбочки солдатик с красной повязкой на руке и надписью «дневальный». Кроме него никого больше в коридоре не было, так что, можно было бы и не кричать команду «смирно».
— Позови замкомвзвода, — приказал старший лейтенант дневальному.
Тот, не отходя от тумбочки, приоткрыл дверь и кого-то позвал:
— Башкин на выход.
Вышел невысокий невыразительный сержант.
— Принимай, Башкин, пополнение. Радист, радиотелеграфист, — рекомендовал, или приказал, «Кадочников», сержанту.
Так началась моя чукотская, провиденская, солдатская жизнь.
В те годы, спустя полтора десятка лет после окончания войны, в народе и в стране ещё сохранялось уважение к солдату. В армии и, в частности, у нас во взводе связи, были солдаты трёх призывов. Одни, как я, например, только начинали службу, другие считали себя «стариками» и готовились к демобилизации. Такого понятия, как «дедовщина» тогда не было, хотя, конечно, «старики» снисходительно к нам относились и нередко пытались свалить на нас белее тяжёлую работу. Но это происходило без насилия и издевательств.
Один из приобретённых мною в карантине товарищей Виктор Цырульников тоже оказался во взводе связи. По образованию он был гидрометеоролог, грамотный человек, мой одногодок и очень хороший товарищ, весёлый, общительный человек. Мы с ним всё время проводили вместе: и на занятиях, и в столовой, и везде в свободное время. До армии Виктор не был знаком с морзянкой и с работой на ключе. Я ему помогал, тренировал и вскоре он добился заметных результатов.
Я уже говорил о неожиданностях, о непредсказуемых происшествиях, и здесь тоже такое событие произошло. Мой техникумовский друг Юра Веткин, с которым я был в Казахстане и которого я однажды, уже здесь, на Чукотке, случайно встретил в поле, тоже был призван в армию в этом году, но месяцем позже меня. Так вот, и он попал служить в бухту Провидения, в военный городок Урелики. Более того, он оказался в той части, что и я, только в другом подразделении. Он стал танкистом. Наши казармы были на расстоянии ста метров друг от друга.
Если продолжить рассказ о непредсказуемых событиях, то следует сказать ещё об одном. Игорь Щуров — наш однокурсник, в Магадан приехал позже нас и был направлен не в Певек, а в Бараниху. Я об этом не знал, но однажды, уже, будучи бывалым служакой, я шёл по посёлку Урелики и встретил там, на улице, трудно поверить, Игоря Щурова в форме пограничника. Он служил в другой части, но в одном гарнизоне, что и мы с Веткиным. Мы втроём, время от времени, в увольнении или в самоволке, бывало и такое, встречались. Посидеть в ресторане было невозможно, но в кафе мороженым баловались, вспоминая годы молодые.
Мы задавали Игорю вопрос относительно его любви. Он отмалчивался, оставляя нас в неведении. Дело в том, что, когда мы в Миассе жили у тёти Нюры, Валя имела подругу Тосю — девочку с виду мужского пола, высокую, рыженькую с редкими, никогда не причёсанными, волосами. Думается, что за свою долгую восемнадцатилетнюю жизнь она ни разу не чувствовала прикосновения какого-нибудь мальчика. Так вот, наш Игорь влюбился в неё так сильно, что где-то по дороге потерял голову. Для всех нас, его друзей, это было такой приятной неожиданностью, что в компании с ним у нас разговоры были только о ней и о нём. Он, Игорь, так защищал свою любовь, что нам всем, параллельно со смехом, было даже немного завидно.
Итак, служба продолжалась. Военная специальность у меня называлась радиотелефонист, то есть, вместе с работой в качестве телеграфиста, я вполне серьёзно привлекался для обслуживания телефонной связи. Мы, как основной и единственный центр связи батальона с командованием округа, имели три функционирующие одновременно точки: главный управленческий узел, передающий и приёмный центры. Оперативная связь между этими тремя точками осуществлялась по телефонной линии. В Провидении, так же, как и в Певеке, зимой были морозы и ураганы, заметающие снегом доверху четырёхметровые столбы, и обрывающие проводные линии. Чтобы обеспечивать круглосуточную связь со штабом округа, часто приходилось ночью, в тёмное время выходить на поиски и ремонт повреждённых линий. Мы одевались так, словно нас отправляли на северный полюс.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу