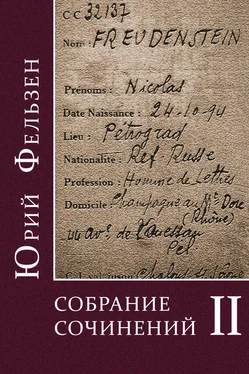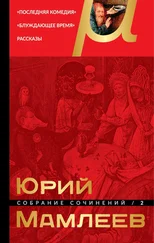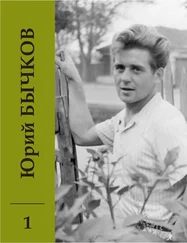Я всю ее вмиг разглядел глазами взрослого, чужого человека – она действительно слегка располнела, как-то раздвинулась в талии, в боках, однако лицом почти не изменилась и только перестала быть красивой (почему, я не мог уловить – у нее сохранились те же краски и те же правильные, мелкие черты). В разговоре она мне представилась такой же ровной, приветливой, как раньше, и такой же ускользающе-неясной, словно всё то, что с ней произошло – замужество, богатство, заграница– и всё, что, по моим предположениям, могло заполнять ее жизнь, вечная смена любовных приключений, утомительно-пьяные ночные кутежи, словно всё это ее не коснулось и на нее ничуть не повлияло. Повинуясь своим ожиданиям, я теперь окончательно поверил, что в ней моя опора и поддержка, и с какой-то искусственной бодростью ей начал рассказывать о прошлом (о нашем старом безоблачном прошлом, баснословно-далеком и чуждом моим последним грубым мучениям):
– Я в вас когда-то был ужасно влюблен.
И я подробно Тоне передал, как смущенно робел в ее присутствии, как не решился ей поднести для нее приготовленные розы, как потом не мог их купить, как Алек меня устранил и как я скрывал свою любовь – она слушала, видимо, польщенная, но своего отношения не выразила, а затем мне вкратце сообщила немногие домашние новости: родители при ней, у мужа «бюро», Алек умер в России от чахотки, Энни с супругом по-прежнему в Лондоне («но он неделовой человек»). Ей захотелось причислить и меня к какой-нибудь деловой категории, и она между прочим спросила, зачем я приехал в Берлин, в каком остановился отеле, и незаметно осмотрела мой костюм. Под конец она с улыбкой добавила:
– Да, мы с вами старинные знакомые и, кажется, были ровесники. Не забудьте, мне тридцать два года.
На следующее утро, перед самым моим отъездом, мне были присланы – без карточки, без имени – грушевидные махровые розы, и с ними я уехал в Париж. Я знал, что розы от Эрны, и оценил ее милое внимание, даже то, что ради меня ей пришлось непривычно рано встать. Но в своих разговорах с приятелями я – сам с собою явно хитря, драматизируя, как-то интересничая – старался внушить себе и другим, что эти розы подарены мне Тоней, что они – запоздалый ответ на мои, ей никогда не поднесенные, что так эффектно и стройно закончилась наша с ней давнишняя история. У меня, как это часто бывает, получился, от многих повторений, готовый рассказ с готовыми словами, до отвращения мне надоевший, один из тех, которые для нас механизируют что-то из прошлого и что-то из него вытесняют: мы к ним от лени постоянно возвращаемся и поневоле забываем остальное. Этот готовый устный рассказ всё время мешал мне писать (как мешала и моя поглощенность теперешней любовной неудачей). Среди других выигрышных фраз, неизменно в нем выступающих, мне самому приятно подчеркивать одну – о прощальном берлинском кутеже: «Итак, со мною рядом очутилась моя последняя и первая любовь». Разумеется, это передержка: Тоня была не первой любовью, да и едва ли была настоящей (как и детская влюбленность до нее). Но когда я так говорю и утверждаю, что розы от Тони, я подчиняюсь внутренней потребности в какой-то схеме, в биографической стройности, в каких-то расплатах и наградах, в необходимости каких-то завершений, без чего мы слишком свободны и погружаемся в анархию и в хаос. И вот, наперекор очевидности и всем нашим азбучным понятиям, мне кажется, только в искусстве (где мы сильнее, бесстрашнее, чем в жизни, по крайней мере душевно и творчески) мы можем себя преодолеть, избавиться от нужных нам условностей и стать безгранично свободными, какими были бы и в жизни, если бы ею не хотели управлять и слегка бы ее не сочиняли.
Я уже неделю нахожусь в русской клинике, недавно открывшейся, пока еще светлой и чистой, где перенес нелегкую операцию (запущенный гнойный аппендицит) и где начинаю медленно поправляться. К постели привинчен маленький пюпитр, с почти отвесною спинкой (что удобно также и для чтения – при моей теперешней слабости действительно «валятся книги из рук»), и я, кое-как приспособившись, неуклюже пишу карандашом. Это было возможно и раньше (у меня всё та же потребность писать), но только сегодня увезли моего единственного сожителя по комнате, а мне беспрерывно мешало его присутствие, хотя бы молчаливое. Я весь погружен в больничную обстановку, не без труда и не сразу освоился (зато надежно и прочно – как со всяким устоявшимся бытом) с навязанными извне собеседниками – докторами, сиделками, сестрами – и мир свободных передвижений, произвольного выбора мест, очередных занятий и друзей, мир улиц, кафе, ресторанов, прогулок, неба и погоды отодвинулся куда-то далеко. Мне иногда освежительно-приятно, что нет постоянной обязанности изворачиваться, о чем-то заботиться, что поневоле на время отложены огрубляющие деловые усилия, мне здесь, как и повсюду, нескучно: неизменная сладкая внутренняя дрожь – то непосредственно, то смутно-отраженно – заполняет и эти часы, несмотря на их видимое однообразие, чудесно меня избавляя от апатического ко всему равнодушия или от приступов глухого нетерпения. Вспоминаю, как я сюда попал, как подчинился здешним порядкам, внезапно ставшим властной реальностью, как незаметно вытеснялась предыдущая, вспоминаю мучительные дни на свободе и удивляюсь нашей восприимчивости, тому, что рано или поздно мы привыкаем к любым жизненным условиям и порой еще умудряемся свое, основное, в них сохранить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу