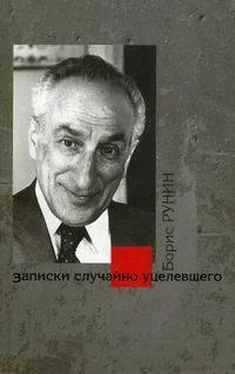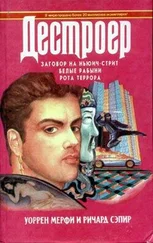Однако Бляхин оказался старше и Фраермана, и Зозули, и Белы Иллеша, не говоря уж о Либединском.
Ничуть не кичась исключительностью своего возраста (да и своей биографии — член партии с 1903 года, участник революции 1905 года, прошедший через ссылку), скорее даже смущенный этим обстоятельством, Павел Андреевич очень просто, как-то по-домашнему говорит, что ему пятьдесят четыре года, но это ничего не значит…
Он и потом никогда не претендовал ни на какие льготы или привилегии, на которые вполне мог бы рассчитывать. И уж во всяком случае, Павлу Андреевичу, человеку необычайно скромному, была чужда какая бы то ни было учительность или просто снисходительная назидательность в общении с окружающими. В его мягкой, ровной, я бы даже сказал — ласковой, манере разговаривать абсолютно отсутствовала столь естественная в его годы интонация превосходства — мол, поживите с мое. Нет, он был ровней со всеми, даже с самыми молодыми из нас. Мне потом довелось прожить с Бляхиным примерно с неделю в одной землянке, и он ни разу не дал мне почувствовать, что почти вдвое старше меня.
— Да, неплохо бы дотянуть до вашего возраста, особенно в наше безмятежное время, — мечтательно произносит, глядя на Бляхина, драматург Павел Яльцев, автор популярной в тридцатые годы пьесы "Ненависть".
По моим тогдашним представлениям он тоже немолод — во всяком случае, лет на десять старше меня, что, впрочем, не помешало нам уже в те дни стать истинными друзьями.
Но вот в разговор вступают поэты.
— А ты, Вадим, о какой контрольной цифре мечтаешь? — обращается к Стрельченко наш правофланговый. Это поэт Саша Миних, человек огромного роста и неисчерпаемого добродушия.
— Я бы хотел прожить столько, сколько будут писаться стихи, — с легким украинским акцентом отзывается тот. — Ты же знаешь, поэты, почти все без исключения, рано или поздно переходят на прозу.
Воспользовавшись спором, возникшим на эту тему, ко мне пододвигается лежащий рядом Роскин.
— Про себя могу сказать только одно, — тихо говорит он, так, чтобы не слышали другие. — В самом близком будущем меня не станет.
Я, внутренне содрогнувшись, оборачиваюсь к нему, но он совершенно спокоен.
— Не подумайте, что я малодушничаю или рисуюсь, — продолжает он. — Просто я это слишком хорошо знаю…
Как реагировать на подобное признание? Роскин уже однажды говорил мне о своих мрачных предчувствиях, но не с такой прямотой. Не скрою, моему самолюбию начинающего литератора льстит расположение этого очень уважаемого и очень авторитетного критика, который уже давно служит для меня примером профессиональной порядочности. Но ведь нельзя же оставить его реплику без ответа. Однако усталость словно лишила меня и всякой мыслительной активности. Притупленное сознание ничего, кроме пошлых возражений, мне не подсказывает, и я, к стыду своему, предпочитаю промолчать.
Между тем разговор об отпущенных нам судьбою сроках вопреки недавнему состоянию всеобщей прострации становится все оживленнее.
— Что касается меня, то я хотел бы дожить до нашей победы, а там посмотрим, — как всегда, чуть насмешливо заявляет Эммануил Казакевич и, поблескивая очками, весело оглядывает собеседников.
Мы уже привыкли к тому, что среди нас немало очкариков. Данин тоже был снят с учета по зрению. С очками не расстаются Лузгин, Гурштейн, Афрамеев, Замчалов, Винер, Бек. Последний также принимает участие в разговоре.
— А как вы думаете, сколько продлится война? — с простодушнейшим выражением лица и затаенным в глазах лукавством обращается он ко всем вообще и ни к кому в частности.
Когда-то давно, будучи в командировке в Кузнецке, я с интересом прочел, так сказать, на месте действия очерки Александра Бека о русских металлургах. Вот уж не думал встретить в его лице человека, столь глубоко и надежно спрятанного за искусной маской чуть ли не детской наивности. И это при явном уме и доброжелательстве к окружающим. Что это — привычка к осторожности, предусмотрительная защита от возможных ударов судьбы?..
— Кто же это может знать! — попадается на удочку торжествующего Бека Павел Фурманский, слывущий среди нас знатоком военной теории и истории.
— Но давайте помнить о том, что империалистическая война длилась четыре года.
— На этот вопрос каждый должен для себя наложить запрет, — советует маленький, тщедушный, но необычайно выносливый Рувим Фраерман, мудрый автор "Дикой собаки Динго".
— Вы знаете, — напоминает о себе поэт Вячеслав Афанасьев, — у меня такое ощущение, будто война началась давным-давно. Будто мы вышли из Москвы еще в той жизни. Будто мы уже годы шагаем по жаре, и этот марш никогда не кончится.
Читать дальше