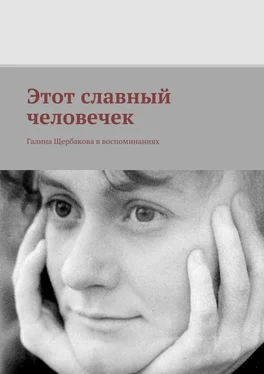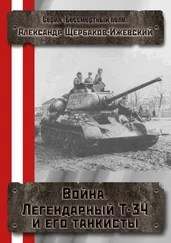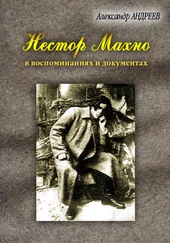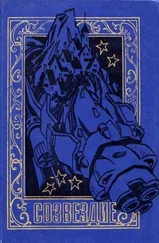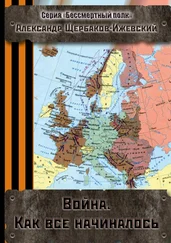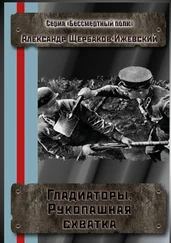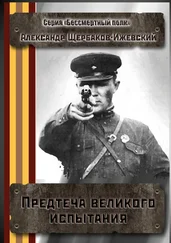И «мальчики». Тут, впрочем, она никаких усилий не прилагала. Хоровод, рой этот кружился вокруг Галки с первого дня. И был потрясающе разнообразен. От первокурсников наших до выпускников. От разгильдяев, от спортсменов – до зубрил-отличников. Галка оттянула на себя чуть не половину скудного мужского отряда гуманитариев, прихватив заодно юристов и геологов, которые тоже учились в главном корпусе.
Как пелось в одной тогда популярной песенке: «Не такая в общем уж красавица»… Даже и кокеткой она не была. А стремление украсить себя какой-то дамской шляпкой с вуалеткой только портило Галку. Глаза только были необыкновенные…
Ведь мы тогда знать не знали о таком удивительном свойстве, как сексапильность. Что-то такое я почуяла на встрече пятьдесят второго года, когда я и Галка, уже невеста, причем вместе с женихом, оказались в компании, где небольшое количество мальчиков было четко прикреплено к конкретным девицам. Я с этими парами общалась постоянно, и никому из ребят в голову не приходило отнестись ко мне иначе, чем как к «хорошему парню». А с появлением Галки «все смешалось в доме Облонских». Пары рассыпались. Все ребята потянулись к ней, как булавки к магниту. И это выглядело так естественно, что не вызывало у остальных девушек, включая меня и «брошенок», ни раздражения, ни обиды. Мы тоже были Галкой очарованы. Это был такой свет не просто женского обаяния, такой костер живой жизни, всплеск эмоций, выходок, острот, что все скромно отступили в сторону, ожидая, когда это пламя вернется в свой личный очаг и позволит затеплиться нашим огонькам.
Наверное, так реализовалась в Галке не только женская, а творческая сущность. Я помню, что так же сверкнула она на вечере самодеятельности, посвященном Симонову, который организовала наша группа. Люба Корж делала серьезный литературоведческий доклад. Галя Махаринская трогательно пела «Сколько б ни было в жизни разлук»…, студенты-поляки хором исполняли «От Москвы до Бреста». Я с интернационалистским пафосом читала «Генерала» – о Матэ Залке в Испании. И много еще кто чего. А Галя Руденко в сценах из пьесы «Парень из нашего города» так непосредственно, живо играла Варю, была так очаровательна, так достоверно влюблена и предана, что зал взрывался аплодисментами после каждой ее реплики.
Еще я помню, как праздновали мы Галкино двадцатилетие десятого мая пятьдесят второго года. Откуда шла компания из пяти студенток? Наверное, возвращались с какого-нибудь общественного мероприятия по случаю Дня Победы. И вдруг Галка нас всех взбудоражила, закружила, затащила в кафе. Совсем не в наших правилах и не по нашим скромным кошелькам. И опять сплошной смех, шутки, радость через край. И внимание на наш стол, на нее всех посетителей мужского пола. И наше чистое, светлое упоение молодостью, весной, первой зеленью, шоколадным мороженым.
Это, пожалуй, последнее мое студенческое воспоминание о Гале Руденко. Когда она вернулась в Ростов через десять лет, работала в «Комсомольце», разводилась с Режабеком, выходила замуж за Сашу Щербакова, я была в Сибири. И вторая встреча с Галкой, теперь Щербаковой, у меня произошла через книги. Сначала – «Вам и не снилось» в «Юности». Потом в «Доне» – «Справа оставался городок».
Первое чувство – удивление. В роли писателя я Галю не представляла. К тому же ранние ее вещи мне не слишком понравились. Что-то в них отдавало розовым. То ли напоминало злополучную вуалетку. Мне кажется, что Галка, достигнув творческой зрелости, сама относилась к этим повестям критически. Но уже зная по собственному опыту, как труден путь от замысла к результату, которого у меня вообще не было никакого, я ждала. И дождалась. Повесть «Стена» в «Знамени» – это уже было серьезно. И в героине, которая, заколов юбку между ног булавкой, делает «колесо», я угадала, узнала юную Галку наших студенческих лет. Но эта живая картинка, броский портрет (такие уже были в описании жизни шахтерского городка) сочетался с тонким психологическим анализом личностей героев. А потом все глубже становились ее книги, интересней круг героев. И все больше совпадений обнаруживала я через книги в нашем отношении к жизни, к людям. Она вдруг легко, как само собой разумеющееся, высказывала то, что мне казалось моим сокровенным. Рассказывала историю, которую никто кроме меня не знал. Смешно, мы обе с ней регулярно употребляли в книгах одно и то же выражение. Только Галя писала «в пандан», а я, ссылаясь на бабушку, которая подхватила, вероятно, словечко в швейцарской эмиграции, да ещё сама «проходившая» в школе французский, пишу «pendent», без русского предлога «в», который самим наречием «pendent» подразумевается. И таких «pendent», то есть – подстать, в масть, в тон – в ее и моих взглядах, вкусах, интересах был миллион. Я с наслаждением читала и такую изящную миниатюру, как «Кровать Молотова», и добрую, прекрасную новомировскую публикацию «У ног лежачих женщин». Удивлялась Галкиной ранее мне не известной образованности, способности к философским обобщениям. Как далеко она ушла от девочки из шахтерского Дзержинска! Я вот не очень-то продвинулась в своем умственном развитии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу