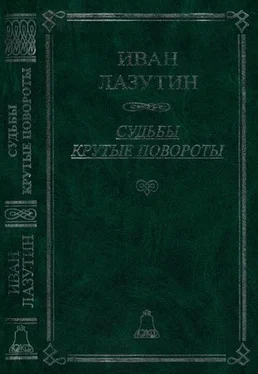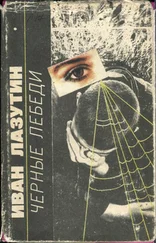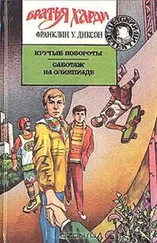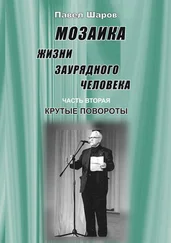— Не верю я тебе, сынок, жалеешь ты меня, всю правду не говоришь. Не в общежитии тут все дело, а в отце.
Не дожидаясь моего ответа, она принялась стелить мне на печке. Положила самую лучшую пуховую подушку, из-за которой мы, братья, до войны чуть ли не дрались.
Когда я проболтался, что почти полгода работал младшим дворником ради жилья в крохотной без окна каморке, мама расплакалась, напрасно пытаясь погасить беззвучные рыдания. Но стоило мне только начать разговор о поисках работы, как она, стерев со щек слезы, принялась успокаивать меня.
— Нечего тебе беспокоиться. Нас, едоков-то, осталось всего трое, а старой картошки хватит до новой, останется и на продажу. Десятиведерную кадушку капусты еще не тронули, свеклы и моркови больше трех мешков, а отелившаяся три недели назад Майка дает до восьми — десяти литров молока. Отдохни, сынок, до лета, а там начнется покос. Петру одному трудно будет заготовить на зиму дрова и сено, он, бедняга, так за войну измотался, от одного огорода руки покрылись мозолями.
Я не стал спорить, сказал, что немного отдохну, а потом посмотрим. Поднимаясь на печку, краем глаза заметил, как мать перекрестила меня и что-то прошептала.
Заснуть долго не мог, жгли бока и спину горячие кирпичи печки. Наверняка она была протоплена вчера, до слуха доносились протяжные глубокие вздохи мамы. В памяти всплыло стихотворение Марка Максимова, которое словно обожгло своей искренней душевностью:
Жен вспоминали на привале,
Друзей в бою, и только мать
Не то и вправду забывали,
Не то стыдились вспоминать.
Но было, что пред смертью самой
Видавший не один поход
Седой рубака крикнет «Мама!»
И под копыта упадет.
Я не помню, в какой газете или журнале попались мне на глаза эти стихи, но после их прочтения отыскал сборник стихов Максимова, замечательного поэта-фронтовика, судьба которого на дорогах войны сложилась так тяжело: плен, побег, мучительный путь к своим. Царство тебе небесное, дорогой Марк. Ты заслужил его как воин и как поэт…
Тяжелые мысли, как камни, ворочались в голове. Противней всего станет необходимость придумывать всякие небылицы для знакомых, которые знали, что я со старшим братом уехал в Москву и поступил в институт. Эту весть сияющий от счастья Петька наверняка разнес уже по всему селу…
Но на следующий день, когда я вышел на улицу, меня ждала неожиданная встреча, которая оказалась как раз удачной. В высоком мужчине с черными всклокоченными бровями и взлохмаченной шевелюрой я не сразу узнал Леньку Сикору, который был старше меня на три года и когда-то учился и дружил с моим старшим братом Мишей. Когда брат в девятом классе выполнял на турнике «скобку», Ленька уже крутил «солнце». Об этом знала не только школа, но и подростки всего села.
Судя по его твердой походке и гордой посадке головы, можно было предположить, что война, через которую он прошел, Леньку не искалечила. Рослый и широкоплечий, он выглядел старше своих лет. Мы обнялись, и через несколько минут сумбурного и взволнованного разговора я узнал, что он работает директором средней школы и преподает историю.
— Давай-ка, Ваня, зайдем на часок в «Шанхайку». Помянем Мишу. — Он прижал к груди свою широкую ладонь. — Поверь, прошел почти всю войну, после ранения завершил ее в Варшаве и ни разу не плакал… Даже когда хоронил боевых друзей. А вот когда мне Петька сказал, что Миша, лучший друг моего детства, погиб при взятии Шимска, плакал. Даже зверски напился в этот день.
Глаза Леньки налились слезами.
— Что это за «Шанхайка»? — спросил я.
— А это, Ваня, так теперь кличут наш местный сельский ресторан, где водку пьют не рюмками, а гранеными стаканами.
Ленька с особым нажимом сделал ударение на последнем слоге.
«Шанхайкой» теперь называли довоенную сельскую столовую, которая даже в базарные дни не заполнялась наполовину, зато во время различных районных конференций работала в две смены. Я ее посетил только один раз — в день отправки нашего эшелона с призывниками. Это было так давно.
Просторный зал с дюжиной четырехместных столиков был заполнен наполовину. В левом углу отгорожена отдельная комнатка, которой до войны не было. Тронув меня за локоть, Ленька потянул меня туда.
— А это что — для высоких благородий? — спросил я.
— Ты почти прав, для блатных. Хотя особо высоких благородиев, что приезжают из Новосибирска, наши высокие начальники предпочитают принимать у себя дома. Вечерком их потчуют баней, а после баньки — застолье.
Читать дальше