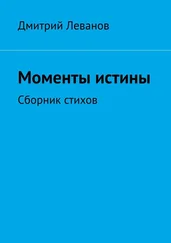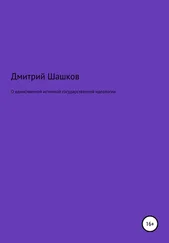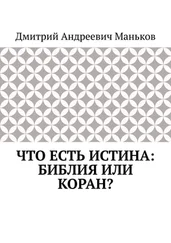– Но вы должны были как-то «показываться» в консерватории?
– Я не помню, чтобы я участвовал со своим опусами в НСО.
– Ну, тогда остаются только одни зачеты и экзамены?
– Выходит, что так. Причем, даже в училище я показывался на каких-то концертах чаще, чем в консерватории. Еще я помню отдельные свои показы в Доме композиторов. Были и разные композиторские встречи у того же Фрида, но для меня спорадические, не регулярные. Так что, повторяю, я нигде не был частью какой-то постоянной группы.
Я сейчас вспомнил, что еще намного раньше, скорее всего, в начале 1960-х годов, был и на прослушивании «Сюиты зеркал» Волконского. Но тогда до нее я явно еще не дошел.
– «Не дошел» – в смысле не дорос?
– Нет! Она меня не объяла как бы. Понимаете? Я даже повел себя как-то так самоуверенно: прослушал и вышел. Ребята там оставались, наверное, и разговоры были. А я вышел. То есть явно был момент юношеского такого «фанфаронства». Не потому, что я был консерватор, академист какой-то. Нет! Но мне хотелось, чтобы я только через себя все пропускал и к чему-то приходил или должен был идти только сам, а не через атмосферу такого дружеского группового энтузиазма. Но это, кстати, пришло и ко мне, правда, позже, когда я уже вступил в Союз композиторов.
– И это «вступление» прошло легко?
– Нет. Не совсем. Ведь поступал я долго – два года. В 1972-м году подал заявление, а приняли меня только в 1974-м.
– Вам кто-нибудь мешал?
– Мне никто не мешал. Просто бюрократическая машина так работала.
– А кто вас рекомендовал в Союз?
– Первый был Фрид, а вот кто был второй, честно говоря, не помню. Я только помню, что на первом показе (там же было несколько таких стадий) была комиссия Московского правления, потом Российского, а дальше подписывал Хренников. Да! Так и было. Была чуть ли не четырехступенная система приема – совершено бюрократическая, тяжеловесная. Так что дело не в том, что кто-то мне препятствовал – сама система была такая неповоротливая. Прослушивали сочинение, потом оно еще год лежит. Затем следующая инстанция слушает. Там своя очередность и так далее. Так вот, мне очень повезло, по-моему, с первой же комиссией. Там был Борис Лазаревич Клюзнер – председатель этой комиссии, в зале находилась Соня Губайдулина, а вот Денисов ушел, я помню, не дождавшись меня. И я очень огорчился. Мне хотелось, чтобы Денисов послушал, а он ушел. А что еще, кроме этого, было и кто еще был, я не помню.
– А с чем вы поступали?
– С выпускной «Симфонией, Квартетом и с «Кантатой…» 20 20 «Симфония для оркестра» – 1969; dur. 30'. «Струнный квартет – 1966; dur. 26'. «Кантата на стихи военных лет» – 1971; для солистов, хора и оркестра; сл. Б. Пастернака, А. Суркова и П. Элюара; dur. 30'.
. Разумеется, не со всей «Симфонией…», а отдельным фрагментом. Еще работая на Радио, я этот фрагмент сумел переписать и даже немножко «подреверберировать», потому что при записи в Доме композиторов, он очень неважно звучал. Так что я его немножко «подреверберировал», чтобы была акустика, хотя бы искусственная. Затем показал очень хорошо исполненную первую часть «Струнного квартета». И потом Володя Хачатуров спел фрагмент из «Кантаты…».
– Квартет студенческий?
– Да, студенческий 1966-го года – третий курс консерватории. Я его, как и «Три стихотворения Моисея Тейфа» 21 21 «Три стихотворения Моисея Тейфа – 1966; для баса и фортепиано (перевод Ю. Мориц); dur. 9'.
, считаю первыми своими опусами. Если бы я нумерацию производил в опусах, то все бы началось именно с этих двух сочинений. Ну так вот, я показал из Квартета первую часть, фрагмент «Симфонии…» довольно большой из ее второй части.
– Почему именно из второй?
– Потому что вторая часть там центральная, самая важная.
– А кто дирижировал?
– Дирижировал Владимир Михайлович Есипов. Недурно, кстати, говоря. Правда, он выучил только вторую часть. Первую часть он просто «отмахал». Ну, может быть не стоило ее и вообще играть, но вторую часть он все-таки проработал неплохо.
– Вы с ним вместе работали над этим сочинением?
– Да. Я к нему, помню, даже приехал накануне исполнения, чувствуя, что дело-то, так сказать, скверное – надо спасать «Симфонию…». Приехал к нему вечером, расставил партитуру, и вдруг во мне впервые какой-то практицизм появился – я долгое время был такой мямля, ну, как бы, как плывет, так и плывет, а тут чувствовал, что на репетиции что-то происходит нехорошее и когда пришел домой, сразу расставил все темпы, позвонил вечером Есипову, он согласился меня принять, я приехал, он почувствовал, что я очень за это болею, что это мне небезразлично, и в результате он очень неплохо сыграл вторую часть.
Читать дальше
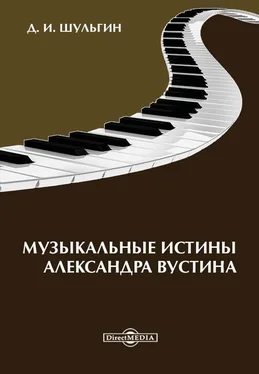

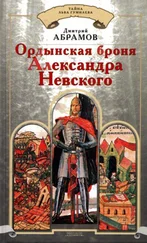

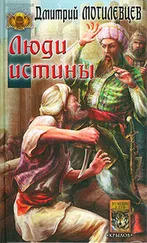
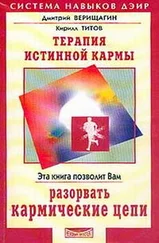
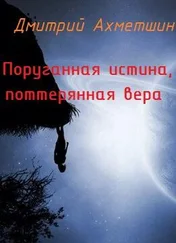

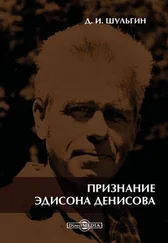
![Дмитрий Серебряков - В погоне за истиной [СИ]](/books/390494/dmitrij-serebryakov-v-pogone-za-istinoj-si-thumb.webp)