Я приехал в Одессу, довольно сильно при этом рискуя. Самовольное изменение маршрута при следовании к месту службы могло быть расценено как дезертирство. Верочка, увидев меня на пороге, так и решила. Они с матерью засуетились, решая, как лучше меня спрятать, но я объяснил им, в чем дело, и утром следующего дня отправился в комендатуру. Разыскал одного знакомого офицера, тот отправил меня к другому, другой — к третьему… Я был настойчивым, поскольку выбора у меня не было, и к обеду мое дело решилось за 1500 немецких марок, весьма солидную по тем временам сумму. Но денег мне было не жаль. Черт с ними, с деньгами! Главное, что мне не нужно ехать в полк, не нужно разлучаться с Верочкой. Разлуку с ней я переживал очень тяжело. О чем бы я ни думал, мысли мои переходили на Верочку. Как она там? Что сейчас делает? Тоже ведь скучает. Военным артистам разрешалось возить с собой семьи при условии, что оплачивать все расходы они будут за свой счет. Взятка за устройство в артистическую бригаду съела почти все мои скромные сбережения, и Верочке того ради, чтобы сопровождать меня в выступлениях, пришлось пойти на жертву. Она продала все свои драгоценности — и те, которые дарил ей я, и те, что получила в наследство от бабки. Когда же я выразил по этому поводу свое огорчение, моя любимая женушка удивилась: «Разве могла я поступить иначе? Ведь жена должна следовать за своим мужем как нитка за иголкой». Мне было очень приятно видеть подобную самоотверженность. Если бы я не любил бы Верочку так сильно, что сильнее уж некуда, то за эту самоотверженность полюбил бы ее еще больше. Она ездила за мной как нитка за иголкой, терпела все лишения, поскольку условия далеко не везде были соответствующими, утешала меня, согревала мою душу, была для меня звездочкой, сиявшей посреди темного неба.
Небо мое и впрямь было темным. Служба в армейской концертной бригаде не имела ничего общего с обычными, «штатскими» выступлениями. Утешаться было можно лишь тем, что на фронте гораздо хуже.
Меня раздражало абсолютно все. Я выходил на сцену в военной форме и пел лирические песни о любви, такие, например, как «Голубые глаза» или «Мне снилось, что я с тобой». Разумеется, я пел на румынском. Несоответствие между репертуаром и военной формой убивало напрочь все удовольствие от выступлений, а я привык выступать с удовольствием. В военной форме хорошо исполнять какие-нибудь бравые марши, но не песни о любви.
Любой офицер, начиная с лейтенанта и выше, мог отчитать меня за расстегнутую пуговицу, за то, что я не отдал ему честь, или же еще за что-нибудь. Мне было очень тяжело привыкать к армейским порядкам.
В концертной бригаде я был единственным русским, и потому меня откровенно третировали. Новости с фронта приходили плохие, все боялись, что за малейшую провинность их отправят на передовую, и вымещали свою злобу и свои страхи на мне. Говорили в моем присутствии гадости о русских, рассуждали о том, насколько румынская нация выше любой славянской, и прочее. Мне приходилось терпеть все эти выходки. А что я мог поделать?
Условия, в которых приходилось жить нам с Верочкой, были далеки от тех, к которым мы привыкли. Нам приходилось выступать в воинских частях, и размещали нас, где придется. Хорошо, если часть стояла в городе, в котором можно было снять комнату у обывателей. Но бывало и так, что рядом находилась только деревня, в которой никто не имел жилья для сдачи. Тогда мы устраивались в казарме. Случалось и так, что нам приходилось делить комнату с кем-то еще. Тогда я брал из реквизита ширму и отгораживал ею наш угол, создавая хоть какую-то иллюзию отдельного помещения. Верочка с поражавшей меня стойкостью переносила все эти лишения и, кроме того, утешала меня, говоря: «Самое главное, что мы вместе. Все остальное пустяки». Верочка милая, добрая, мягкая, но внутри у нее стальной стержень. Когда того требуют обстоятельства, она может быть стойкой, может вынести все что угодно. Я думал, что мне придется утешать ее, уговаривать потерпеть, смириться с лишениями, а вышло так, что утешала меня она. Ради того, чтобы сопровождать меня в моих поездках, Верочка пожертвовала занятиями в консерватории, которые были ей очень нужны. В консерваторию она поступила еще до войны, с началом войны оставила учебу, а возобновила по моему настоянию, уже не в качестве пианистки, а как певица. Помня о том, сколько лиха хлебнул я сам, пока не научился всему, что было мне нужно, я хотел, чтобы Верочка получила настоящее серьезное образование.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
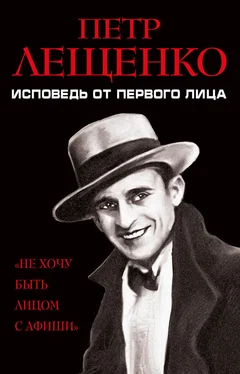





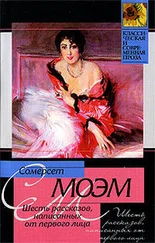

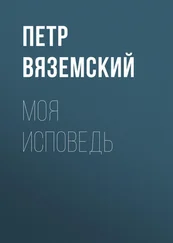
![Сергей Антонов - От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант]](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-thumb.webp)


