В тот день я особенно остро почувствовал, что теперь у меня снова есть семья, близкие мне люди. Это было очень приятное, очень нужное мне чувство. Про мои отношения с Зиночкой и Игорем я уже писал, так же, как и про отношения с отчимом. Сестра Валя вышла замуж, и мы с ней после этого общались мало. Я никак не мог поладить с ее мужем. Он держался со мной сухо, как с чужим человеком, а не как с шурином. Я вначале недоумевал, а потом понял причину. Он мне завидовал. Я — известный певец, а он — обычный, никому не известный тромбонист из оркестра. Что ж, это его беда и его дело. Мама же винила меня в том, что случилось с Катей. «Если бы ты не был бы с ней так резок, она не бросила бы нас», — не раз говорила мне мама. Катя рассказала ей о нашем последнем разговоре, но сильно сгустила при этом краски. Я мягко, деликатно, на правах старшего брата объяснил ей, что драматическая актриса — это не ее амплуа. А она рассказала маме, будто я назвал ее бездарностью и другими обидными словами. Да разве ж я мог так поступить? Я посторонних людей не называю бездарностями. Если кто-то спрашивает моего мнения о своих способностях, а я вижу, что способностей нет, то говорю что-то вроде: «задатки у вас есть, но вам нужно много работать». Не считаю себя вправе выносить приговоры. «Бездарность» — это приговор, после которого у любого человека опускаются руки. Я понимал, откуда дул ветер. Подлец Мажаров настроил Катю против меня, против всех родственников, чтобы она стала послушной игрушкой в его руках. Я пытался объяснить маме, что ни в чем не виноват, но она мне не верила. Мы не поссорились, слава богу, до этого не дошло, но былой сердечности в наших отношениях уже не было. Отчим, вместо того чтобы успокоить маму, постоянно подливал масла в огонь, говорил ей: «Твой Петька обидел нашу Катюшу». «Твой Петька» и «наша Катюша» — очень хорошо и весьма показательно!
Так что радость моя от обретения новой любви и новой семьи была огромной. Я снова чувствовал себя счастливым человеком. Как когда-то давным-давно. Я уже позабыл, каково быть счастливым, и теперь снова познавал это. Верочкина мама Анастасия Пантелеймоновна разрешила мне называть ее по-домашнему Натой. «У меня такое длинное имя-отчество, что вы замучаетесь постоянно его выговаривать», — сказала она. Сама же она звала меня Петечкой. У нее это звучало очень мило. Вообще-то я не люблю чрезмерной слащавости, не люблю, когда меня называют Петечкой, Петенькой, Петрушей и пр. Но для Верочкиной мамы сделал исключение.
Меня поразило мужество Верочки и ее матери. Жилось им под румынами непросто. Верочкин отец был коммунистом, офицером Красной армии. Старший из ее братьев, Георгий, совсем еще мальчик, тоже успел послужить в Красной армии в начале войны. Он прибавил себе возраст, чтобы уйти на фронт. Попал в плен недалеко от дома под Николаевом, бежал, сумел добрался до дома. Конечно же, среди соседей нашлись «доброхоты», которые донесли румынам, что отец и брат Верочки — красноармейцы, а отец вдобавок еще и коммунист. Это грозило семье отправкой в лагерь, а Георгия могли расстрелять. Верочкина мать сумела отвести беду, как она сама выражалась: «отбрехаться от румын». Отца Верочки незадолго до начала войны назначили директором санатория для инвалидов, который находился недалеко от Одессы. Дел было много, и он жил в санатории, а домой наведывался только по выходным. Это позволило Верочкиной матери заявить, что она перед войной развелась с мужем и за его дела отвечать не может. Брат же сказал, что призвали его насильно и он при первом же удобном случае дезертировал. Нашлись друзья, бывшие у румын на хорошем счету, которые все это подтвердили. Семью оставили в покое, но жить все равно приходилось с большой опаской. Вдруг румыны снова придерутся? Вдруг кто-то напишет донос? Но Верочка с матерью жили и не унывали. «Все это когда-нибудь закончится, — говорила Верочкина мать. — Наше дело — дожить до этого дня».
Дожить, выжить было тогда главной задачей. Я не мог понять, что произошло с людьми. Немцы творили неслыханные зверства, и румыны не отставали от них. Двадцатый век! Европа! А людей вешают на улицах и оставляют висеть в устрашение живым! Будучи в Одессе, я вспоминал, как румыны пришли в Кишинев в 1918 году. По сути дела, тогда тоже была оккупация. Пришли чужие солдаты и начали устанавливать свои порядки. Но те румыны были совсем другими, не такими как в 40-е годы. Не было облав, не было публичных казней, не было преследования евреев и цыган. В конце весны 1918 года в Кишиневе кто-то поджег румынские армейские склады. Говорили, что это дело рук большевиков. Но мы спокойно ходили по улицам и не боялись того, что нас схватят и повесят из-за этого поджога. Профессор Алексяну, преподававший когда-то право, подписывал приказы о казнях ни в чем не повинных людей, которых предавали смерти без следствия и суда. Примар [76] Мэр, городской голова.
Одессы Герман Пынтя, имя которого было знакомо мне еще с 1918 года [77] В 1917–1918 годах Герман Пынтя (1894–1968) был членом Сфатул Цэрий (парламента Молдавии) и военным министром Молдавской демократической республики.
, был сыном уважаемого в Кишиневе адвоката и офицером русской армии. Кто мог подумать о том, что Пынтя станет творить в Одессе? А румынских военных приходилось опасаться даже мне, обладателю румынского паспорта. Патрульный мог преспокойно выстрелить в человека, показавшегося ему подозрительным, не спрашивая документов и ничего не выясняя. Так, например, был убит мой знакомый, бухарестский коммерсант Никулае. Приехав в Одессу, он с непривычки сделал глупость — вышел на улицу ночью, во время комендантского часа. Возле здания сигуранцы на Канатной улице его застрелил часовой. Видимо, часовой решил, что перед ним партизан, который хочет кинуть бомбу в окно. У Никулае в Бухаресте остались больная мать, жена и трое детей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
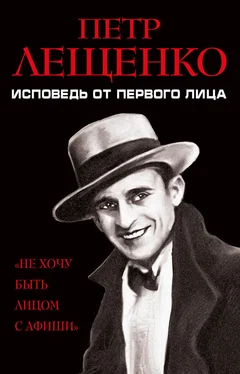





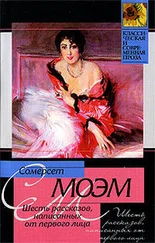

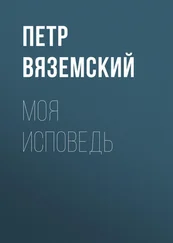
![Сергей Антонов - От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант]](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-thumb.webp)


