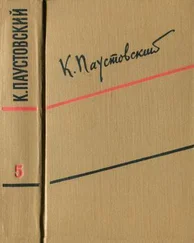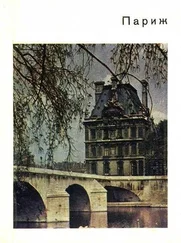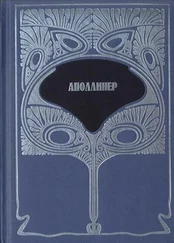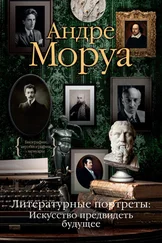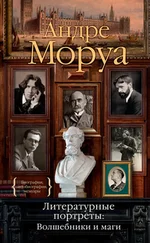Нужно хорошо понять, что, отказавшись судить, он был тем не менее готов помочь всем, кто страдает. Мы помним, какую большую роль сыграли во время эпидемии холеры его мужество, его самоотверженность, его помощь, медицинская и моральная, крестьянам в Мелихове. Он считал также, что «дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание». И уж тем более за невиновных. Во время дела Дрейфуса он публично одобрил позицию Золя и почти поссорился с Сувориным, который был антидрейфусаром. «И какой бы ни был приговор. Золя все-таки будет испытывать живую радость после суда, старость его будет хорошая старость, и умрет он с покойной (...) совестью». У самого Чехова не было старости. Но мы знаем, что он умер с чистой совестью. Он писал где-то, что большой писатель должен вести читателя к большой цели. Какую же цель ставит он? «...свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником». Такова была его программа, если присовокупить к этому активное сострадание. За чеховским скептицизмом и агностицизмом скрывается вера в человека, ибо в глубине человеческого сердца существует подлинное чувство любви. Оно легче всего обнаруживается в любви между мужчиной и женщиной. Но «то, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть». Каким он должен быть... Это значит добрым, бескорыстным, уважающим другого. Вот какова та более чистая жизнь, к которой Чехов указывает путь в своих пьесах и рассказах. О, он не говорит этого прямо. Он делает это с бесконечным целомудрием и застенчивой мягкостью. Но мы-то знаем, что становимся лучше, выходя из театра после просмотра «Дяди Ванн» или «Вишневого сада». А это для художника подлинная – и единственная – слава.
Статья в форме диалога – Вы, конечно, знаете, что мое поколение уже не верит в будущее психологического романа? – Я намного старше вашего поколения, но никогда не верил ни в будущее, ни даже в настоящее такого уродливого, такого неопределенного термина... Это жаргон, сказал бы наш учитель Ален. – Хорошо, скажем иначе... Верите ли вы в аналитический роман? В роман социальный? Думаете ли вы, что молодой романист должен, как это повелось в последние сто лет, подделываться под «Адольфа» или «Отца Горио»? – Дай Бог, чтобы эти подделки были удачны! Нет, я не думаю, что писатель, будь он молод или стар, должен слепо подражать методам своих предшественников, пусть даже самых великих... А то, что у них можно многому поучиться, – это очевидно. Сам Бальзак брал за образец Вальтера Скотта и Фенимора Купера. – Бальзак перенял кое-что у Скотта и Купера и использовал по-своему, чтобы изобразить мир, не имеющий ничего общего с их миром. Отсюда разница в звучании и обновление. Однако любая форма искусства стареет и умирает. Трагедия имела успех у современников Корнеля и Расина. Но уже в следующем веке она стала отжившим жанром. «Эрнани» приводил в восторг молодежь 1830 года, романтическая драма остается действенной и теперь. Я восхищаюсь Курбе и Делакруа, но вряд ли стал бы восхищаться современным художником, начни он им подражать. – Но вы же до исступления восхищаетесь некоторыми художниками и скульпторами, которые ищут для себя образцы в негритянском искусстве или в архаике Древней Греции.
Как выяснилось, форма искусства, казавшаяся мертвой, может возродиться. Тем не менее я готов признать, что эстетическое переживание в какой-то мере – и в немалой – связано с шоком. Сегодня требовательный читатель даже от хорошего романа, написанного в бальзаковской или флоберовской манере, не получает достаточного заряда. Для меня перед 1914 годом роль «электрического ската» сыграл Марсель Пруст. Он знал Бальзака и Флобера лучше, чем кто-либо, мог, если хотел, в точности воспроизвести их стиль, но намеренно отошел от них. – Пруст перенес анализ на тот единственный участок, где он законен, – в сознание рассказчика. Но в наше время было бы так же нелепо подражать Прусту, как и Флоберу... Для моего поколения не один Пруст был такого рода «электрическим скатом». Шок, который мы получили от Джойса, Кафки, Фолкнера, был ошеломляющим, стимулирующим... Я ценю Пруста и Фолкнера за то, что они заставляют читателя совершать скачки во времени – то вперед, то назад. Эта гимнастика пробуждает внимание, усыпляемое последовательным рассказом. Я благодарен Кафке и Камю за то, что они создали героев, порвавших всякие связи с обществом. – Это объясняется тем, что вы живете в эпоху ослабления или распада всех общественных связей. Когда общество обретет новые силы и форму, ему вновь понадобятся свои романисты. – Не думаю. Социальный роман мне представляется таким же мертвым, как психологический. Романисты будущего уже не будут верить в существование социальной и, следовательно, внешней реальности. В завтрашних романах, как в кинематографе, движения и предметы будут существовать сами по себе, а не через восприятие героя. Роб-Грийе хотел бы написать книгу, «где предметы как бы сами себя осознают». – Что это значит? Человек понимает только человека. Я, однако, допускаю стремление изображать лишь видимое снаружи, единственную подлинную реальность, в противовес «глубинам сознания», где, по существу, тоже нет ничего, кроме видимого, только на иной лад. Это – здоровый подход, подход хорошего портретиста. Он старается уловить тени, валеры, отсветы: его не заботят ни сходство, ни душа. Если пятна и валеры на месте, то остальное придет само собой. – Мы по-прежнему говорим о разных вещах. Вы сейчас имеете в виду импрессионистский роман. А я – за роман абстрактный, беспредметный. Отныне потребность в рассказе, в героях, в «реалистических» диалогах, потребность, которую, без сомнения, испытывает средний человек, будет удовлетворять кино. Роль Диккенса и Бальзака отойдет к экрану.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу