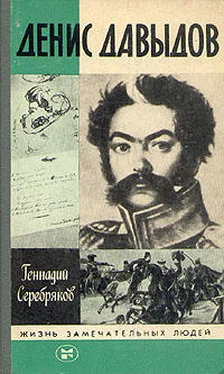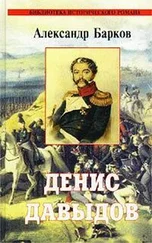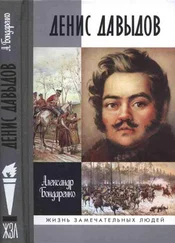1832 год ознаменовался для Давыдова выходом в свет его первого поэтического сборника, куда из всего написанного за многие годы он посчитал возможным включить лишь 39 стихотворений, отобранных им с большим старанием и тщательностью.
Книга эта вызвала добрую оценку и читающей публики, и критики. Друзья тепло поздравляли Дениса Васильевича с заслуженным успехом.
Не особо избалованный широким признанием его поэтических заслуг, Давыдов, окрыленный и радостный, уехал в свою степную Верхнюю Mазу с новым, еще более обострившимся желанием творить. В салонной благопристойной Москве ему было тесно и душно, не хватало буйного свежего ветра, ощущения воли, простора и распашки. Об этом он и писал вскоре после приезда в пензенское имение в своей «Гусарской исповеди»:
Я каюсь! Я гусар давно, всегда гусар,
И с проседью усов — все раб младой привычки,
Люблю разгульный шум, умов, речей пожар
И громогласные шампанского оттычки.
От юности моей враг чопорных утех —
Мне душно па пирах без воли и распашки.
Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех,
И дым столбом от трубочной затяжки!
Бегу век сборища, где жизнь в одних ногах,
Где благосклонности передаются весом,
Где откровенность в кандалах,
Где тело и душа под прессом;
Где спесь да подлости, вельможа да холоп,
Где заслоняют нам вихрь танца эполеты,
Где под подушками потеет столько...,
Где столько пуз затянуто в корсеты!..
Этими стихами он громогласно объявлял, что не собирается изменять пристрастиям, увлечениям и убеждениям своей бурной молодости, что гусарство для него навсегда остается символом удалого раздолья, душевного благородства и «живого братского своеволия».
В степных пензенских краях вместе с ощущением беспредельной воли и простора к Денису Васильевичу совершенно нежданно пришла и на целых три года закружила, как ослепительно-лихая весенняя гроза, его последняя, неистовая, самозабвенная, безрассудная, счастливая и мучительная любовь...
Все случилось как-то само собой. Однажды на святочной неделе он, заснеженный и веселый, примчался за двести верст в село Богородское навестить своего сослуживца и подчиненного по партизанскому отряду, бывшего гусара-ахтырца Дмитрия Бекетова и здесь встретился и познакомился с его племянницей, 22-летней Евгенией Золотаревой, приходившейся через московское семейство Сонцовых дальней родственницей Пушкину. Живая, общительная, легкая и остроумная, с блестящими темными глазами, похожими на спелые стенные вишни, окропленные дождевой влагой, в глубине которых, казалось, таилась какая-то зазывная восточная нега, она буквально в одно мгновение очаровала славного поэта-партизана. К тому же, как оказалось, Евгения хорошо знала о всех его подвигах по восторженным рассказам дяди и была без ума от его стихов, особенно от любовных элегий, которые прекрасно читала наизусть...
Обоюдный интерес с первой же встречи обернулся взаимной симпатией. Дальше — больше. Воспламенившиеся чувства вспыхнули с неудержимой силой.
Денис Васильевич, конечно, помнил о том, что стоит на пороге своего пятидесятилетия, что давным-давно женат, что у него уже шестеро детей и репутация примерного семьянина, и тем не менее ничего не мог поделать с нахлынувшим на него и яростно захлестнувшим все его существо любовным порывом, который по своему прямодушию он не собирался скрывать ни от любимой, ни от всего белого света:
Я вас люблю так, как любить вас должно:
Наперекор судьбы и сплетней городских,
Наперекор, быть может, вас самих,
Томящих жизнь мою жестоко и безбожно.
Я вас люблю не оттого, что вы
Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит,
Уста роскошествуют и взор Востоком пышет,
Что вы — поэзия от ног до головы!
Я вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, —
Я мог бы вас любить глухим, лишенным зренья...
Я вас люблю затем, что это — вы!..
Любовь к Евгении Золотаревой явилась для Давыдова великой бедой и великим, ни с чем не сравнимым счастьем. Три года этой любви, как сам он говорил впоследствии, были краткими, как три мгновения, но вместили в себя три нескончаемые, заново прожитые жизни. Все, что выпало ему, он испытал полной мерой — и восторженное упоение юной красотой, и тяжелый гнев и ледяной холод оскорбленной жены; и мечтательный полет души и змеиное шипение сплетен; и головокружительное кипение страсти и горько-трезвое осознание непреодолимости суровых жизненных обстоятельств... Пожалуй, никогда прежде он не испытывал и такого бурного прилива творческих сил, как в эти три года.
Читать дальше