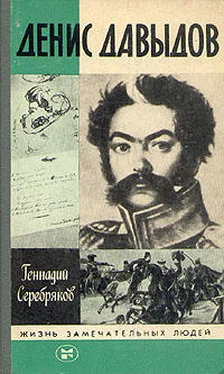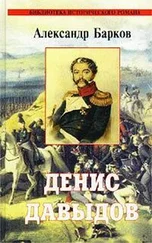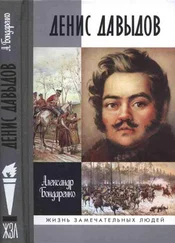После чтения Пушкин, не в силах сдержать себя, нервно расхаживал по комнате. А Денис Васильевич сидел, опустив голову, с зажатым в руке давно угасшим чубуком. Когда он поднял лицо и обратил его к Пушкину, тот увидел в темных, смоляных глазах его слезы восторга и восхищения. Повинуясь какому-то вихревому бессловесному порыву, Давыдов поднялся с кресла и шагнул навстречу к Пушкину. Они обнялись.
Через какое-то время Денис Васильевич в задумчивости взял один из исписанных листов и снова прочел, невольно вторя голосом своим пушкинской интонации:
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.
Он помедлил немного, вдумываясь в только что вновь прозвучавшие строки, и вдруг спросил:
— А признайтесь-ка, Александр Сергеевич, что пленник Кавказский не кто иной, как вы сами. Вся душа в нем ваша!
— Весь свет может поэт обмануть, — с улыбкою и дымкою грусти в глазах откликнулся Пушкин, — только не собрата своего, поэта истинного!..
Когда Никита, передремав остаток ночи на своей лежанке, вошел в комнату, чтобы растопить выстывшую к утру печь, в окнах уже сияло и искрилось белесое январское солнце, а хозяин с важным усатым гостем в генеральском мундире все еще сидели у стола и о чем-то толковали с прежней живостью. Зеленая же бутылка рейнвейна из его кровных запасов так и стояла перед ними нераскрытою. Баре о ней, должно быть, даже и не вспомнили...
В самый канун отъезда, заглянув к Пушкину, Денис Васильевич случайно заметил на его столе лист, испещренный стихотворными строфами, над которыми было выведено: «Денису Давыдову».
— Простите, Александр Сергеевич, имя свое увидел непроизвольно. И законному любопытству моему, конечно же, нет предела.
— Пока это лишь наброски, дорогой Денис Васильевич. Похвастаться нечем. Может быть, что-то и напишется. Впрочем, ежели хотите, прочту и то, что есть, — ответил он с обычною своей простотою и непринужденностью. — Не судите строго. — И, держа перед глазами исчерканный лист, прочел:
Певец-гусар, ты пел биваки,
Раздолье ухарских пиров,
И грозную потеху драки,
И завитки своих усов.
С веселых струн во дни покоя
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутыль...
...Я слушаю тебя и сердцем молодею,
Мне сладок жар твоих речей,
Печальный, снова пламенею
Воспоминаньем прежних дней...
...Я все люблю язык страстей,
Его пленительные звуки
Приятны мне, как глас друзей
Во дни печальные разлуки.
Видите, сколь невесело получилось. Должно, когда писал я сии строфы, уже предчувствовал печаль нашего расставания. Впрочем, даст бог, мы еще, может быть, свидимся и в Киеве. Вот завершу я «Пленника» своего, мне уже немного осталось, и тоже махну за вами следом. Страсть как хочется побывать на контрактах, а более того еще раз повидать премилых моих Раевских. Да и братцы ваши, Александр Львович и Базиль, обещали мне составить компанию.
Ясные глаза его были полны доброго голубого света.
Однако Давыдов в Киеве долго не задержался. В несколько дней он завершил арендные дела, нанес свои обычные визиты — друзьям, знакомым, родне. У Раевских вовсю готовились к помолвке старшей дочери Екатерины Николаевны с генералом Михаилом Орловым. Об этом событии было уже объявлено. Ждали жениха, который неожиданно по каким-то своим спешным делам в первых числах января уехал в Москву. Стало быть, с ним Денис Васильевич разъехался где-то дорогою.
От Раевских же узнал Давыдов и еще одну весьма взволновавшую его новость: в свое орловское имение прибыл с Кавказа Алексей Петрович Ермолов, который далее должен следовать в Петербург, а потом будто бы за границу, куда требует его к себе находящийся ныне в Лайбахе государь.
— Не иначе как царь намеревается его заставить покорять итальянских карбонариев, — рассудительно сказал Николай Николаевич Раевский. — Зачем же еще Ермолов потребовался с его авторитетом и громкою военного славою? Что и говорить, незавидная участь ожидает нашего братца. Ослушаться вроде нельзя, вызовешь гнев и немилость монарха. И в то же время пятнать себя кровавыми расправами с борцами против деспотизма — значит заслужить презрение и честных соотечественников, и вольнолюбивой Европы. Стало быть, уподобляться полицейскому либо палачу тоже невозможно. Надобно третий путь искать, единственно разумный. Поехал бы ты к нему, Денис, вместе-то, глядишь, что-нибудь бы и надумали.
Читать дальше