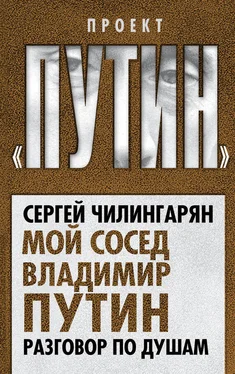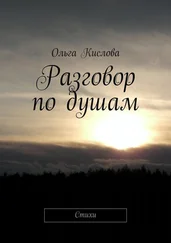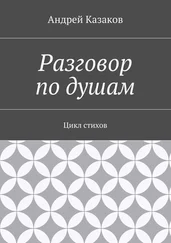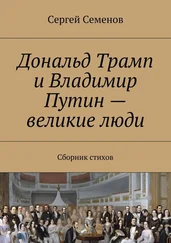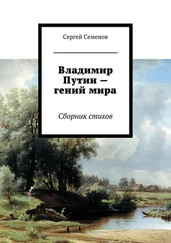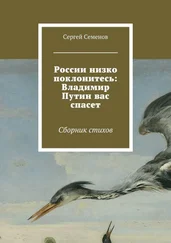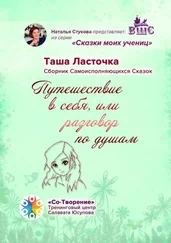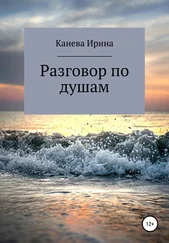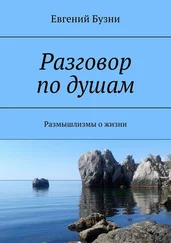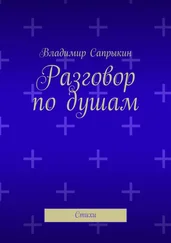Ну, хорошо, вот ты, не знаю для чего, — очевидно, как пиарочное де-жавю, если не сказать хуже — по-иезуитски пригласил на свое рождение группу товарищей вымирающей, во всяком случае, несытой профессии. Из списка лишь трое задержались в памяти. Давай их, хотя бы кратко, охарактеризуем — чтобы оценить твой вкус. Хотя правильнее будет сказать — выбор твоих доверенных культурологов.
Валентин Распутин. Что ж, в похвалах он не нуждается, русская словесность может им гордиться. Если сравнить его с другим корифеем — Астафьевым, то в своей прозе он строже, даже скупее увлекающегося живописца слова Виктора Петровича. Вот, скажем, у него зима в сибирской деревушке: глухие сумерки, время военное, едва светится чье-то одинокое окошко в избе на отшибе. И каким, думаешь, одним объемлющим эпитетом охарактеризовано это слабое свидетельство бедной уединенной жизни? Ни за что не догадаешься! Ну, закрой глаза, представь. (Тебя бы туда на всю зиму, чтобы пробрало…)Астафьев, скорее всего, немного живописи подпустил бы. А Распутин — нет; он тоже не знает, кто там за окном, но пишет просто и точно: «старушечий свет в окошке».
Ну, хорошо, будет с нас ляля-тополя, переходим к другому писателю. А то на бисере, хватаясь друг за друга, поскользнемся оба…
Андрей Битов. Совсем другой прозаик — рафинированный городской… чуть не сказал амбивалентщик, но это слово уже почти ругательное. Нет, проще говоря, он — современный достоевец, умеющий в себе тонко и стильно покопаться. А роднит его с Распутиным — почему и говорю, что губа у твоего шептуна не дура — высокий уровень мастерства. В десятку лучших прозаиков последней трети XX века, спрашиваешь? И не сомневайся! К перечисленным трем можно добавить (без расклада по ранжиру, понятно) и Аксенова, и Искандера, и Юрия Коваля, и братьев Стругацких, и Юрия Трифонова… далее по вкусу. Я не такой знатный, чтобы кто-то обиделся, что я его забыл. Тем более что иных уж нет… а тех — долечат, как обыграл один шутник. И, между прочим, как в воду глядел: поликлиника Литфонда уже лет 15 бесплатно не фондюкает. Выхирение художественной мысли, истощение замыслов, вымирание рядов — вот чем больна теперь отечественная литература.
С Битовым, могу похвастаться, знаком лет 30, и рукописи, которые я ему привозил, он все читал. Выпить и погрузиться со мною не пренебрегал…
И хотя твой секретарь записал в гостевом журнале о Битове что-то вроде «Литературный Смотрящий на дне рождения присутствовал», я все же про него продолжу. Он — личность неординарная, говорит всегда интересно, без прописей, (в своей прозе иногда бывает скучнее и камернее, чем в речи) и может вызвать смех, даже не стремясь к нему, одним лишь необычным прикосновением к подтексту. Как деятель, представляющий лицо нашей современной литературы за рубежом, он на своем месте. Говорю это, несмотря на то, что мог бы предъявить ему свою… обиду — не обиду, но умозрительную претензию. Вкус к прозе у него безошибочный, и он всегда отмечал у меня лучшие произведения (прочитав их еще в начале 80-х). И в последний раз, в 2009-м, говорил по телефону: «Сережа, у тебя три гениальные вещи: «Бобка», «Водоем» и про алкаша. …Хотя про алкаша — с оговорками». Именно так объективно и сложились за 30 лет читательские предпочтения. Слово «гениальный» он сказал впервые, — понятно, как девальвированный термин. Я даже подумал, что он стареет, раз уже употребляет расхожее слово.
Но вот по-настоящему он помог опубликоваться — причем с переводом, за границей — другому прозаику. Лет 15 назад тот с гордостью говорил мне, что в Париже ему выплатили 65 тысяч франков. Я намеренно не называю этого прозаика, его имя мало кому сейчас что скажет; да и то, что было переведено и представлено французам как лучшее из современной струи, оказалось проходной модерновой туфтой. А почему Битов пошел на это? Причина, думаю, проста: пол у этого прозаика — женский…
* * *
А вот и третий из приглашенных тобой писателей — Александр Кабаков. Его имя зацепилось потому, что я с ним пересекался. Вот это, скажу тебе, Володя, — твой кадр. Сноб и конформист, хорошо чувствует время. В 70-е писал юморески, регулярно печатался на 16-й странице «Литгазеты», получая «Золотых телят». Это не я так сказанул, а мой давний персонаж во времена книжного голода восторженно завопил у магазина: «Ура, «Золотых телят» дают!» А премия называлась, конечно, «Золотой теленок».
Так вот, Саша в своей сатире едко высмеивал всяких советских буржуинов — фарцовщиков, цеховиков, тучных завмагов… Причем с квалифицированным описанием их антуража: предметов роскоши, деталей зажиточного быта и прочего… Прямо внедренный в чуждую среду крот. Но все это, понятно, с советских искренних позиций, то есть — с тлеющим осмеянием. Хотя, если вчитаться, чувствовалось законспирированное почтение… Редакторы, короче, ушами хлопали и давали ему «Золотых телят» за социальное остроумие. Телят — это громко, но минимум одного он взял, а может, и двух.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу