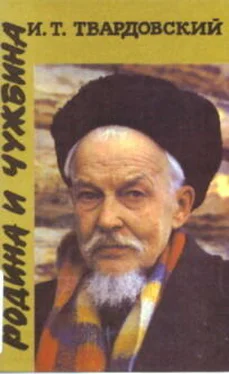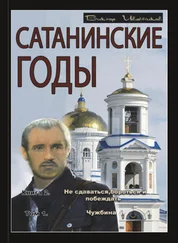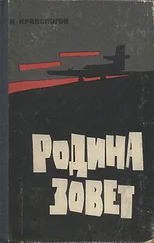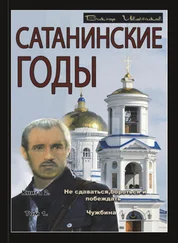Не могу удержаться, не сопережить, да и читателю хочу напомнить о милом, сыновнем стихотворении брата — "Поездка в Загорье", в котором он упоминает наших односельчан, в том числе и Лазаря Ивановича. Написано это стихотворение спустя полных десять лет со дня последней встречи брата с уголком детства и юности, где почти так же давно не было его кровных. Приведу отдельные строки:
Я окликнул не сразу
Старика одного
Вижу, будто бы Лазарь.
— Лазарь!
— Я за него…
Присмотрелся — и верно:
Сед, посыпан золой
Лазарь, песенник первый,
Шут и бабник былой…
И еще:
— Что ж, мы, добрые люди,—
Ахнул Лазарь в конце,—
Что ж, мы так-таки будем
И сидеть на крыльце?
В начале двадцатых годов кузницы у отца не было. Семья наша, состоявшая из девяти человек, продолжала жить с земли. В хозяйстве имели одну лошадь, две коровы, несколько овец. Но жилось трудновато. Хлеб был постоянной проблемой. Рожь, основная хлебная культура, на нашей земле редко удавалась, и отец вынужден был пересеивать озимые яровыми — ячменем, гречихой, овсом. Веснами несколько лет подряд мы бывали без хлеба. Перебивались всякой зеленью, вместо хлеба шли затируха, драники и все такое. Питались, как в шутку говорил отец, "акридами и диким медом" {2} 2 Акриды — род саранчи, употребляемой в пищу в Аравии. "Питаться диким медом и акридами" — значит голодать, скудно питаться. (Ред.).
. Хорошо помню, что весной 1923 года продали платяной шкаф и комод, так как иного выхода не видели. Вещи эти были, пожалуй, единственные, которые как-то облагораживали наше жилище, но бесхлебица принудила отдать за муку. Купил эти вещи наш родственник из деревни Ковалеве — Вознов.
— Черт с ним со всем! — говорил отец. — Не пропадать с голоду!
А потом и продавать уже нечего стало. Ходил отец однажды из угла в угол, курил махорку, думал. В такие минуты все затихали, чего-то ждали, надеялись, потому что знали его натуру, помнили им же сказанные неоднажды слова, что безвыходных положений не бывает. Тогда-то он вдруг остановился и объявил:
— Всё! Иду в люди! Руки мои еще здоровы!
Выражение "в люди" он знал из сочинений Горького, свои слова — "руки мои еще здоровы" — говаривал нередко, если предвиделась нелегкая работа. Откладывать сборы не любил. Утром следующего дня мы расставались. Всех он перецеловал, каждому что-то успел сказать, хотя бы просто "Будь молодцом! Не горюй!" — и ушел. Удаляющуюся его фигуру, видневшуюся на травянистой дорожке вдоль межи, мы долго провожали взглядом. Уже чуть заметной была его покачивающаяся голова за пригорком, потом и совсем скрылась, но мы все смотрели и смотрели туда вдаль, как бы боясь повернуться и увидеть опустевшее его место у окна.
Недели через две отец возвратился домой — семьянин он был заботливый: спешил дать знать, где нашел работу и что ожидается впереди. Настроение у него было приподнятое. В деревне Мурыгино, что была где-то по Рославльскому шоссе между Починком и Смоленском, неподалеку от деревни Колычеве, в которой жила его родная сестра Евдокия, он работал теперь исполу, в хозяйской кузнице, у некоего Абрама. Молотобойцем у него был хозяйский сын, мечтавший стать кузнецом. Отец удовлетворен. За эти первые недели он успел кое-что заработать — принес связку баранок, немного сала, несколько рублей денег, узелок крупы. Радости нашей не было конца: все мы чем-то одарены, как-то отмечены. Всего же дороже было то, что отец остался доволен найденным местом. Ковал он там лошадей, зубил серпы, правил крестьянские топоры — все работы он хорошо знал. Дела нашей семьи заметно улучшились. Так и пошло: каждую субботу Костя впрягал лошадь, ехал в Мурыгино и привозил домой отца с гостинцами. Воскресные дни стали похожи на праздники.
Так с весны 1923 года до осени 1925 работал отец в чужой кузнице. По неделе, иногда по две кряду он не бывал дома. Период этот воспринимался просветленным, обнадеживающим, жить мы стали лучше. Не помню уж, то ли выпивал малость, то ли нет, но каждый раз, приезжая домой, он от души пел. Там, в Мурыгине, он узнал новые для него песни "Ты крапива, ты зеленая" и "Жили чумаки". Как одну, так и другую он певал по-белорусски, как довелось ему слышать. Матери не нравилось, когда он употреблял приставку «ти», а также слова «бяды», «гады» ("Жили чумаки тридцать три гады, не видали чумаченьки над собой бяды"), но он считал, что нужно петь именно так, как поется песня в народе, с характерными особенностями местного говора.
Читать дальше