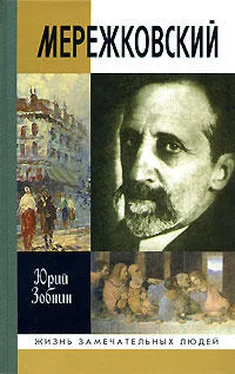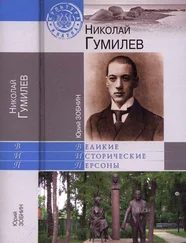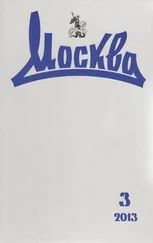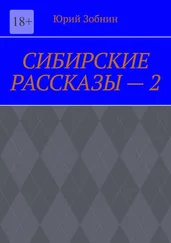Поведение его никоим образом не напоминало куртуазное поклонение «рыцаря бедного» – Прекрасной Даме.
Регулярные свидания-собеседования с Гиппиус отнюдь не мешали Мережковскому наслаждаться благами курортной жизни и, кстати, завязать параллельный любовный роман с другой «боржомской поэтессой», Соней Кайтмазовой, «которая всегда гуляла одна, с книжкой, не бывала на вечерах, даже на музыке», – как не без раздражения замечает Гиппиус, добавляя, что «эта барышня, очень действительно, скромная и милая, кажется, была чеченка» и «раздражала» «живой характер» Мережковского «тупым молчанием». (В «Голубом небе» она выведет ее под именем Манлиевой – «декадентствующей» дамы, читающей на литературном вечере «прозу», озаглавленную «Размышления над трупом».) «Заветные прогулки» и споры, которые имели столь большое значение для Гиппиус, самим Мережковским воспринимались тогда скорее в виде коллизии курортного романа, могущего впоследствии стать «сюжетом для небольшого рассказа» – по слову одного из действующих лиц еще не написанной, знаменитой в будущем пьесы. Так «играет» с Верой Сергей Забелин, намеренно раззадоривая собеседницу «словесным поединком», «сарказмами, иронией своей»:
Забелин увлечен игрой бесплодной.
Он очень мало с чувствами знаком,
А, между тем, исследует умом
Свою любовь с жестокостью холодной.
Можно, конечно, возразить, что эта характеристика – плод художественного вымысла. Однако спустя всего два месяца, осенью 1888 года, пребывая в качестве счастливого жениха, Мережковский в преамбуле к статье о Флобере достаточно ясно сформулирует уже от «первого лица» свое понимание проблемы: «Честный человек, когда клянется женщине в любви, верит в искренность своих клятв – ему и в голову не придет сомневаться, любит ли он в самом деле так, как воображает, что любит. Поэт по внешности более, чем другие люди, кажется способным отдаваться чувству, верить, увлекаться, но на самом деле в душе его, как бы она ни была потрясена страстью, всегда остается способность наблюдать за собою, за действующим лицом романа или драмы, следить, даже в минуты полного опьянения, пристальным взором за тончайшими, неуловимыми изгибами своих ощущений и беспощадно анализировать их».
Врожденная прозорливость Гиппиус не отменяла летом 1888 года естественной возрастной наивности восемнадцатилетней провинциальной барышни, ослепленной столичным блеском «настоящего литератора» и, подобно барышням своего круга, склонной мыслить в категориях более сказочно-фантастических и сентиментальных, нежели практических и здравых. Так, прощаясь с женихом, уезжающим для устройства свадебных дел в Петербург, она снабжает его соответствующими стихами:
Осенняя ночь и свежа, и светла
В раскрытые окна глядела.
По небу луна величаво плыла,
И листья шептались несмело.
Лучи на полу сквозь зеленую сеть
Дрожали капризным узором…
О, как мне хотелось с тобой умереть,
Забыться под ласковым взором!
В душе что-то буйной волною росло,
Глаза застилались слезами,
И было и стыдно, и чудно светло,
И плакал Шопен вместе с нами.
(«Осенняя ночь и свежа, и светла…»)
Стихи, конечно, от совершенства далекие, но милые и, главное, вполне узнаваемые по тону:
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан Богом,
До гроба ты хранитель мой…
(А. С. Пушкин «Евгений Онегин»)
Потом она будет писать несколько иначе – и опыт семейной жизни с «поэтом» немало посодействует тому:
В своей бессовестной и жалкой низости
Она как пыль сера, как прах земной.
И умираю я от этой близости,
От неразрывности ее со мной.
Своими кольцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная – моя душа!
(«Она»)
«Я уже больше не ребенок, наивный, избалованный, податливый и мягкий», – напишет Гиппиус в одном из писем начала 1893 года. И все же именно этого «наивного ребенка», а точнее – провинциальную русскую барышню с детской верой в сказку, – она будет всеми отпущенными ей свыше силами, человеческими и поэтическими, отстаивать в себе всю жизнь. Пушкинская Татьяна будет надежно скрыта у нее за спасительными масками «декадентской мадонны», «белой дьяволицы» et cet. – для того, чтобы при первом знаке ослепительной надежды явиться вдруг вновь и вновь – бесплодно, смешно и страшно. «Неужели надо мной никто не сжалится, ну Бог, что ли, и не пошлет мне, моему физически больному сердцу два-три тихих месяца, без историй, без мучительств, без всяких оскорблений жизни!» – в ужасе восклицает она, оказавшись в очередной раз в пошлейшем и глупейшем положении. «Легче скорей умереть, чем тут задыхаться от зловония, от того, что идет от людей, окружает меня – и даже не окружает, – довольно, если я знаю… Любовь! Я потратила все силы, чтобы найти тень этого чуда. И когда все истратила, то поняла, что напрасно искала, потому что ее нет. Нет – или есть, как Бога нет или есть».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу