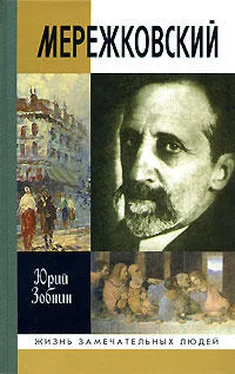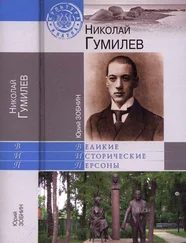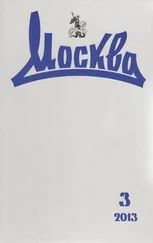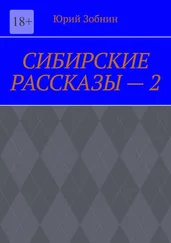«В Петербурге давно уже все фабрики встали, – отмечал в записной книжке Мережковский, – трубы не дымят. Небо над умирающим городом – ясное, бледно-зеленое, как над горными вершинами. На улицах снег – девственно белый, как в поле. Все лавки закрыты; прохожих мало; езды почти никакой – только редкие автомобили с комиссарами, да грузовики с красноармейцами. Посредине улицы – лошадиная падаль с обнаженными ребрами; собаки рвут клочья кровавого мяса. На мохнатых лошаденках едут башкиры, желтолицые, косоглазые; поют дикую, заунывную песнь, ту же, что пели в солончаковых степях Средней Азии».
Одна за другой умирали надежды хоть на какой-либо «благополучный исход». Из Москвы доходили слухи о кошмарном – с пушками и расстрелом Кремля – подавлении восстания юнкеров. В декабре были объявлены долгожданные выборы в Учредительное собрание, но было очевидно, что захватившие власть большевики не допустят нормальной работы этого форума.
«Любит, не любит, плюнет, поцелует… Так мы гадаем об Учредительном собрании. Захотят большевики – оно будет, не захотят – не будет», – писал в эти дни Философов. Как в воду смотрел: 5 января 1918 года Учредительное собрание открылось, но… проработало один день: «революционные матросы» по приказанию Ленина разогнали депутатов и расстреляли рабочую демонстрацию в их поддержку. Иногда доходили слухи о движении к Петрограду каких-то войск: то немецких, то союзнических, то частей сформированной бежавшим из-под ареста Корниловым Белой гвардии, однако слухи эти так и оставались слухами.
* * *
В первые недели после переворота все трое, не считаясь с опасностью, хлопотали за арестованных «министров». Ходили к Горькому.
С Максимом ГорькимМережковский и Гиппиус познакомились еще в незапамятные времена «Северного вестника», где молодой нижегородский журналист Алексей Максимович Пешков опубликовал под этим странным псевдонимом в 1897 году рассказ «Мальва». Успех публикации был велик. Вся читающая Россия повторяла фразу, открывающую рассказ: «Море смеялось». Впрочем, «Максима Горького» столичные читатели заметили еще в 1894–1895 годах, после выхода рассказов «Челкаш» – в «Русском богатстве» и «Супругов Орловых» – в «Русской мысли». Аким Волынский, привечая перспективного сотрудника, дал в честь Горького банкет. Мережковские, посидев немного, сочли за благо покинуть торжество – здравицы показались им несколько пошловатыми. Однако уже в вестибюле они вдруг наткнулись на разгоряченного, красного от счастья и стыда «виновника торжества», кинувшегося их провожать.
– Скажите, – выдохнул Горький, – неужели же я… такой талантливый?
Вышло наивно и искренно. Мережковский от души улыбнулся; на том и разошлись.
После, когда Горький уже приобрел не только всероссийскую, но и мировую известность, в «Новом пути» появлялись весьма резкие статьи, диссонирующие с хором, возносящим хвалу «певцу босяков». В 1907 году Философов даже «специализировался» на «отпевании Горького», посылая из Парижа в отечественные журналы разгромные статьи, констатирующие «смерть» горьковского таланта. Однако в годы полемики «богостроителей» с «богоискателями», после выхода горьковских «Исповеди», «Жизни ненужного человека» и особенно после появления «Детства», отношение к «оппоненту» у участников «троебратства» изменилось: «конец Горького» был отменен, а Мережковский даже написал одну из лучших в «горьковской» критике статей «Не святая Русь» (1916).
«Несколько лет назад предсказывали „конец Горького“, – писал Мережковский. – В предсказании была правда и ложь. Как пророк „сверхчеловеческого босячества“ Горький, действительно, кончился. Но кончился один Горький – начался другой. ‹…› Чужое лицо истлело на нем – пышная маска „сверхчеловека“, „избранного“, „единственного“, – и обнажилось свое, простое лицо, лицо всех, лицо всенародное. ‹…› А что… нет для Горького иных путей к народной стихии, как через сознание религиозное, – видно по его последней книге – „Детству“. Не только в смысле художественном это – одна из лучших, одна из вечных русских книг (не потому ли так мало сейчас оцененная, что слишком вечная?), но и в смысле религиозном – одна из самых значительных. На вопрос, как ищут Бога простые русские люди, «Детство» Горького отвечает, как ни одна из русских книг, не исключая Толстого и Достоевского».
Мережковский вообще благоволил к Горькому в эти годы более всех из «трио», вступая даже в полемику с Гиппиус и Философовым, настаивавших на «антихудожественном» характере горьковского творчества. «В произведениях Горького нет искусства, – признавал Мережковский в „исследовании“ «Чехов и Горький» (1906), – но в них есть то, что едва ли менее ценно, чем самое высокое искусство: жизнь, правдивейший подлинник жизни, кусок, вырванный из жизни с телом и кровью… И, как во всем очень живом, подлинном, тут есть своя нечаянная красота. Безобразная, хаотическая, но могущественная, своя эстетика, жестокая, превратная, для поклонников чистого искусства неприемлемая, но для любителей жизни обаятельная».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу